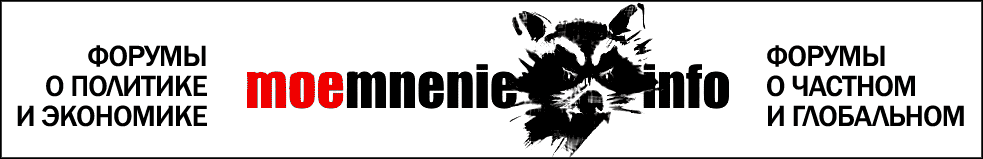
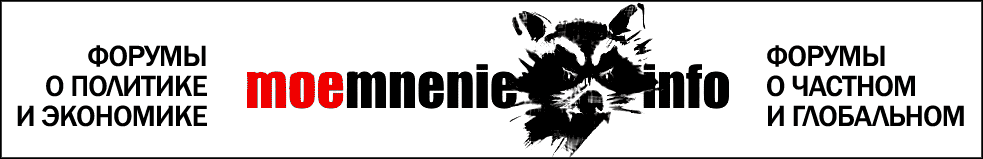 |
Пророк. Изречённые мысли.
Россия и Германия. Из интервью "Шпигель. 2007 год.
Шпигель: Вы читали Гёте, Шиллера и Гейне в подлинниках и всегда надеялись, что Германия станет чем-то вроде моста между Россией и остальным миром. Вы верите, что немцы ещё способны играть эту роль сегодня? Солженицын: Верю. Во взаимной тяге Германии и России есть нечто предопределённое – иначе она не пережила бы двух безумных мировых войн. Шпигель: Кто из немецких поэтов, писателей и философов оказал на Вас самое сильное влияние? Солженицын: Моё детское и юношеское становление сопровождали Шиллер и Гёте. Позже испытал я увлечение Шеллингом. И для меня драгоценна великая немецкая музыка. Я не представляю свою жизнь без Баха, Бетховена, Шуберта. |
Россия и Запад
Солженицын: Причин можно назвать несколько, но мне интереснее всего психологические, а именно: расхождение иллюзорных надежд – и в России, и на Западе – с реальностью. Когда я вернулся в Россию в 1994-м, я застал здесь почти обожествление Западного мира и государственного строя разных его стран. Надо признать, что в этом было не столько действительного знания и сознательного выбора, сколько естественного отвращения от большевицкого режима и его антизападной пропаганды. Обстановку сначала поменяли жестокие натовские бомбежки Сербии. Они провели чёрную, неизгладимую черту – и справедливо будет сказать, что во всех слоях российского общества. Затем положение усугубилось шагами НАТО по втягиванию в свою сферу частей распавшегося СССР, и особенно чувствительно – Украины, столь родственной нам через миллионы живых конкретных семейных связей. Они могут быть в одночасье разрублены новой границей военного блока. Итак, восприятие Запада как, по преимуществу, Рыцаря Демократии – сменилось разочарованной констатацией, что в основе западной политики лежит прежде всего прагматизм, зачастую корыстный, циничный. Многими в России это переживалось тяжело, как крушение идеалов. В то же время Запад, празднуя конец изнурительной «холодной войны» и наблюдая полтора десятка лет горбачёвско-ельцинскую анархию внутри и сдачу всех позиций вовне, очень быстро привык к облегчительной мысли, что Россия теперь – почти страна «третьего мира» и так будет всегда. Когда же Россия вновь начала укрепляться экономически и государственно, это было воспринято Западом, быть может, на подсознательном уровне ещё не изжитых страхов – панически. |
|
|
Национальная идея
Солженицын: Термин «национальная идея» не имеет чёткого научного содержания. Можно согласиться, что это – когда-то популярная идея, представление о желаемом образе жизни в стране, владеющее её населением. Такое объединительное представление понятие может оказаться и полезным, но никогда не должно быть искусственно сочинено в верхах власти или внедрено насильственно. В обозримые исторические периоды подобные представления устоялись, например, во Франции (после XVIII века), Великобритании, Соединённых Штатах, Германии, Польше и др. и др. Когда дискуссия о «национальной идее» довольно поспешно возникла в послекоммунистической России, я пытался охладить её возражением, что, после всех пережитых нами изнурительных потерь, нам на долгое время достаточно задачи Сбережения гибнущего народа. |
О Горбачёве, Ельцине, Путине.
Солженицын: Горбачёвское правление поражает своей политической наивностью, неопытностью и безответственностью перед страной. Это была не власть, а бездумная капитуляция её. Ответные восторги с Запада только подкрепили картину. Но надо признать, что именно Горбачёв (а не Ельцин, как теперь звучит повсеместно) впервые дал гражданам нашей страны свободу слова и свободу перемещения. Ельцинская власть характеризовалась безответственностью перед народной жизнью не меньшей, только в других направлениях. В безоглядной поспешности скорей, скорей установить частную собственность вместо государственной – Ельцин разнуздал в России массовое, многомиллиардное ограбление национальных достояний. Стремясь получить поддержку региональных лидеров – он прямыми призывами и действиями подкреплял, подталкивал сепаратизм, развал российского государства. Одновременно лишая Россию и заслуженной ею исторической роли, её международного положения. Что вызывало не меньшие аплодисменты со стороны Запада. Солженицын: Путину досталась по наследству страна разграбленная и сшибленная с ног, с деморализованным и обнищавшим большинством народа. И он принялся за возможное – заметим, постепенное, медленное, – восстановление её. Эти усилия не сразу были замечены и, тем более, оценены. И можете ли Вы указать примеры в истории, когда меры по восстановлению крепости государственного управления встречались благожелательно извне? |
Ленин, Троцкий и катастрофа Росии в 1917 году.
Шпигель: Прошло уже почти 90 лет с того времени, как Россию потрясли сперва Февральская, а затем и Октябрьская революции — события, красной нитью проходящие через Ваши произведения. Несколько месяцев назад Вы в большой статье подтвердили Ваш тезис: коммунизм не был порождением прежнего российского режима, а возможность большевистского переворота была создана лишь правительством Керенского в 1917 году. Сообразно этому ходу размышлений, Ленин был всего лишь случайной фигурой, попавшей в Россию и сумевшей захватить власть лишь при содействии немцев. Мы верно Вас понимаем? Солженицын: Нет, неверно. Превратить возможность в действительность — под силу лишь экстраординарным личностям. Ленин и Троцкий были ловчайшими, энергичными деятелями, сумевшими вовремя использовать беспомощность правительства Керенского. Но поправлю Вас: «Октябрьская революция» — это миф, созданный победившим большевизмом и полностью усвоенный прогрессистами Запада. 25 октября 1917 года в Петрограде произошёл односуточный насильственный переворот, методически и блистательно разработанный Львом Троцким (Ленин в те дни ещё скрывался от суда за измену). То, что называется «Российская революция 1917 года», — есть революция Февральская. Её движущие причины — действительно вытекали из дореволюционного состояния России, и я никогда не утверждал иного. У Февральской революции были глубокие корни (что я и показываю в моей эпопее «Красное Колесо»). Это, в первую очередь, — долгое взаимное ожесточение образованного общества и власти, которое делало невозможным никакие компромиссы, никакие конструктивные государственные выходы. И наибольшая ответственность — конечно, на власти: за крушение корабля — кто отвечает больше капитана? Да, предпосылки Февраля можно считать «порождением прежнего российского режима». Но отсюда никак не следует, что Ленин был «случайной фигурой», а денежное участие императора Вильгельма — несущественным. В Октябрьском перевороте не было ничего органичного для России, — напротив, он перешиб её хребет. Красный террор, развязанный его вождями, их готовность утопить Россию в крови — первое и ясное тому доказательство. |
Список литературы, использованной А.И. Солженицыным
при написании статьи "“РУССКИЙ ВОПРОС” К КОНЦУ XX ВЕКА 1 С. Ф. Платонов. Смутное время. Прага. 1924. 2 Л. А. Тихомиров. Монархическая государственность. Изд. “Русское слово”. Буэнос-Айрес. 1968. 3 С. Ф. Платонов. Москва и Запад. Изд. “Обелиск”. Берлин. 1926, сс. 111 — 114. 4 С. Зеньковский. Русское старообрядчество. Wilhelm Fink Verlag. Mьnchen. 1970, сс. 290 — 339. 5 Иван Солоневич. Народная монархия. Изд. “Наша страна”. Буэнос-Айрес. 1973. 6 С. М. Соловьёв. История России с древнейших времён. М. 1963, кн. XI, с. 153. 7 В. О. Ключевский. Сочинения. Курс русской истории. 1958, т. 4, сс. 190, 198. 8 Там же, с. 304. 9 С. Соловьёв, ук. соч., кн. X, с. 282. 10 Там же, с. 547. 11 С. Соловьёв, кн. XIII, с. 58. 12 Там же, с. 66. 13 В. О. Ключевский, ук. соч., т. 4, с. 319. 14 С. Соловьёв, кн. XIV, сс. 54 — 56. 15 Сочинения Г. Р. Державина, с объяснительными примечаниями Я. Грота. 2-е Академическое изд. СПб. 1878, т. VII, сс. 627 — 632. 16 И. Солоневич, ук. соч. 17 В. О. Ключевский, ук. соч., т. 5, с. 60. 18 Державин, ук. соч., т. VII, с. 718. 19 С. Соловьёв, кн. XIII, с. 438. 20 Державин, ук. соч., т. VII, сс. 723 — 753. 21 “История XIX века”. Под ред. Лависса и Рамбо. ОГИЗ. М. 1938, т. 1, сс. 125 — 140. 22 Лависс, Рамбо, ук. соч., т. 2, с. 269. 23 В. О. Ключевский, т. 5, сс. 454 — 455. 24 Лависс, Рамбо, т. 2, сс. 351 — 352. 25 Лависс, Рамбо, т. 3, с. 163. 26 В. О. Ключевский, т. 5, сс. 272, 275, 460 — 461. 27 Там же, сс. 273, 278 — 279. 28 Лависс, Рамбо, т. 4, сс. 373 — 376. 29 Лависс, Рамбо, т. 5, с. 212. 30 Там же, сс. 212, 220. 31 “Русский вестник”, май 1896. 32 Лависс, Рамбо, т. 5, с. 227, примеч. Е. Тарле. 33 В. О. Ключевский, т. 5, сс. 283 — 290, 390. 34 Лависс, Рамбо, т. 6, с. 73. 35 Лависс, Рамбо, т. 6, с. 81. 36 Лависс, Рамбо, т. 8, с. 297. 37 Журн. “Красный архив”, т. 74, с. 175. 38 Лависс, Рамбо, т. 7, сс. 417 — 418. 39 “История Сибири с древнейших времён до наших дней”, т. II. Изд. “Наука”. Л. 1968, с. 99. 40 Там же, с. 55. 41 Там же, сс. 181 — 282. 42 Там же, сс. 323 — 331, 343 — 353. 43 Из фонда Всероссийской Мемуарной Библиотеки. 44 “Красный архив”, т. 74, сс. 165 — 177. 45 Там же, т. 38. 46 Газ. “Слово”, 9 — 25 марта 1909. 47 “Новый мир”, 1991, № 3, с. 227. 48 Н. А. Бердяев. Философия неравенства. ИМКА-пресс. Париж. 1923, с. 20. 49 Цит. по “Время и мы”, № 116, с. 216. 50 “Документы внешней политики СССР”. М. 1959, т. III, с. 675. 51 Там же, сс. 664 — 665, 676 — 681. 52 Там же, т. IV, с. 774. 53 “Нью-Йорк Таймс”, 6.3.94. 54 Там же. 55 С. Булгаков. Размышления о национальности. “Два Града”, вып. II, с. 289. |
Русский классик и "наши" толстые журналы.
= Переворошила в инете е подшивки всех наших "толстых" журналов за август-ноябрь сего года. Искала некрологи и отклики нашей "трепетной элиты" на уход из жизни А.И. Солженицына. Молчание! (если не считать публикацию в "НМ" № 9 дневниковых записей Л. Чуковской. "Счастливая духовная встреча") Просто поразительно! И есть о чём подумать... |
Вот они -- "пророки" России!
Цитата:
политику "наших" литературных журналов. О том, почему их тиражи доходят почти до нуля... О том, кто их содержит и для кого. Вот и ответ -- на странице когда-то (в баклановские времена!) любимого толстяка "Знамя" мелькают. Любуйтесь! Узнаёте самые значительные лица российской словесности? :))) |
О гонорарах за "Архипа".
*** Фонд Солженицына ( «Русский общественный фонд») был основан в 1974 году сразу после того, как писатель был выслан из СССР. Фонд сформирован из гонораров, полученных за издание «Архипелага ГУЛАГ», который опубликован уже на 30 языках. Изначальная цель — помощь бывшим политзэкам, которых сейчас осталось 2660 человек. В 2006 году они получили 11 млн руб. Кроме того, фонд помогает провинциальным библиотекам, это в 2006 году 3,5 млн руб. Уже 10 лет вручается литературная премия Солженицына, которую первым получил академик Владимир Топоров. Среди лауреатов — Валентин Распутин, Леонид Бородин, Евгений Носов, Инна Лиснянская, Евгений Миронов, Владимир Бортко, Игорь Золотусский. (Примечание. Данные на 2006 год.) |
|
Цитата:
к этому снимку... Ищу словесную форму для эмоций и мыслей. Нашла, но ... не та! Спасибо, кто поможет. |
Ответ клеветникам всех мастей.
Александр СОЛЖЕНИЦЫН Потёмщики света не ищут Вспыхнувшая вдруг необузданная клевета, запущенная во всеприемлющий Интернет, оттуда подхваченная зарубежными русскоязычными газетами, сегодня перекинувшаяся и в Россию, - а с другой стороны оставшиеся уже недолгие сроки моей жизни - заставляют меня ответить. Хотя: кто прочел мои книги - всем их совокупным духовным уровнем, тоном и содержанием заранее защищены от прилипания таких клевет. Новые нападчики не брезгуют никакой подделкой. Самые старые, негодные, не сработавшие нигде в мире и давно откинутые фальшивки, методически разработанные и слепленные против меня в КГБ за всю 30-летнюю травлю, - приобрели новую жизнь в новых руках. С марта 2003 началась единовременная атака на меня - с раздирающими «новостными» заголовками. Из-за внезапной рьяности новых обличителей, при полной, однако, тождественности нынешней клеветы и гебистской, - приходится и мне вернуться к самым истокам той, прежней. Систематическое оклеветание начали почти сразу после «Ивана Денисовича» (1962) - а уж тем более после захвата части моего архива в 1965. (Об этом - «Бодался теленок...»1, глава «Подранок», и дальше.) .... продолжение тут |
Враженята-солженята...
За оказание помощи Н. Д. Светловой при родах главный врач родильного дома доктор медицинских наук М. С. Цирульников был исключён из партии, освобождён от должности и от педагогической работы в медицинском институте. На районной парткомиссии ему, как рассказал сам Цирульников, было заявлено: «Раз вы дали родить жене Солженицына, пусть и неофициальной, значит, вы дали родиться ребёнку врага народа, политическому врагу. Вы совершили сознательное преступление. Вы коммунист, руководитель учреждения, вам партия и правительство доверили такой пост, а вы вот что делаете». Но и после увольнения доктора долго не оставляли в покое, и в 1977 году он эмигрировал во Францию. Врач пострадал за рождение второго сына Исаича -- Игната. ============================== 34 года спустя... 08 апреля 2006 г. http://www.kenigfil.ru/news/01poster/solzenicin/02.jpg В Большом зале Консерватории аншлаг - концерт профессора Филадельфийской консерватории Игната Солженицына. Моцарт и Шуман в исполнении Московского симфонического оркестра и Игната Солженицына, который в этот вечер и солировал на фортепьяно и дирижировал. |
Солженята растут русскими богатырями...
http://www.priestt.com/gg_priestt/ee...d/27-9a856.jpg http://img.rg.ru/img/content/21/86/67/sol.jpg http://www.rodgaz.ru/image.php?tid=4150&from=Production |
Анонс!
В ближайших №№ : 1. Солженицын и его "друзья" -- КГБ, "общечеловеки" и еврействущие. 2. Солженицын о советском и русском. |
http://koleso.by.ru/1/1.png
О КНИГЕ “Август Четырнадцатого” задуман автором в 1937 году — ещё не как Узел Первый, но как вступление в большой роман о русской революции. Тогда же, в 1937 в Ростове-на-Дону, собраны все материалы по Самсоновской катастрофе, доступные в советских условиях (немалые), — и написаны первые главы: приезд полковника из Ставки в штаб Самсонова, переезд штаба в Найденбург, обед там… Конструкция этих глав осталась почти без изменения и в окончательной редакции. В той первой стадии работы много глав отводилось Саше Ленартовичу, но эти главы с годами отпали. Были также главы об экономии Щербаков (дед автора по матери), где уже тогда задевался вопрос о деятельности Столыпина и значении убийства его. NB! Затем в работе над романом наступил перерыв до 1963 года (все заготовки сохранились через годы войны и тюрьмы), когда автор снова стал усиленно собирать материалы. В 1965 определяется название “Красное Колесо”, с 1967 — принцип Узлов, то есть сплошного густого изложения событий в сжатые отрезки времени, но с полными перерывами между ними. С марта 1969 начинается непрерывная работа над “Красным Колесом”, сперва главы поздних Узлов (1919-20 годы, особенно тамбовские и ленинские главы). Той же весной 1969 писатель перешёл к работе над одним “Августом 1914” — и за полтора года, к октябрю 1970, кончил его (то, что в нынешнем издании составляет первый том и часть второго). В таком виде Узел Первый был опубликован в июне 1971 в Париже издательством YMCA-press, в том же году вышло два соперничающих издания в Германии, затем в Голландии, в 1972 — во Франции, Англии, Соединённых Штатах, Испании, Дании, Норвегии, Швеции, Италии, в последующие годы — и в других странах Европы, Азии и Америки. Самовольное печатание книги на Западе вызвало атаку на автора в коммунистической печати. После высылки писателя в изгнание, он углубил написанные ещё в СССР ленинские главы, в том числе и 22-ю из “Августа”, намеренно не опубликованную при первом издании. Она вошла в отдельно изданную сплотку глав “Ленин в Цюрихе” (Paris, YMCA-press, 1975). Весной 1976 писатель собрал в Гуверовском институте в Калифорнии обширные материалы об истории убийства Столыпина. Летом-осенью 1976 в Вермонте были написаны все относящиеся к этому циклу главы (ныне 8-я и 60-73). В начале 1977 написана глава „Этюд о монархе” (ныне 74-я, была отдельно напечатана в “Вестнике РХД”, 124, 1978) — после чего Узел Первый окончательно стал двухтомным. Последняя редакция Узла сделана уже в процессе набора, в 1981 в Вермонте. Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, — подлинные. NB! Отец автора выведен почти под собственным именем, и семья матери доподлинно. Семьи Харитоновых (Андреевых) и Архангородских, Варя — подлинные, Ободовский (Пётр Акимович Пальчинский) — известное историческое лицо. (1.) |
КГБ отрабатывает "версии"
гражданского убийства Исаича. Солженицын. Систематическое оклеветание начали почти сразу после «Ивана Денисовича» (1962) - а уж тем более после захвата части моего архива в 1965. (Об этом - «Бодался теленок...»1, глава «Подранок», и дальше.) Для того служила бесподобная советская система «закрытых» пропагандистских лекций - какие для партактива, какие для совслужащих, - а вся вместе, по СССР, эта разветвленная и бесперебойная система охватывала сотни тысяч, если не миллионы слушателей. Через эти лекции можно было внушать то, чего не решались в газетах, - и поди узнай, что там про тебя несут на этих закрытых лекциях, - лишь одиночные свидетельства достигали меня. Линии клеветы - перебирались и множились. Первая ставка была, что Солженицын - еврей (на лекциях варьировалось - «Солженицер», «Солженицкер»), - и в дореволюционных архивах Московского университета майор Госбезопасности Благовидов выискивал данные на моего отца. NB Но параллельно возникла, а вскоре и победила другая ставка: что я - изменник родине, что я был в немецком плену - нет-нет, и хуже: сдал с собой в плен целую батарею! что далее я стал немецким полицаем - нет, хуже: прямо служил в Гестапо! |
= Почему КГБ
(в частности, куратор гулаговца-вражины Исаича -- Ф. Денисыч Бобков, а в 90-х советник В. Гусинского) отказалось от "жыдовского" следа А.И. Солженицына? ***Ваши догадки -- прошу на тама Там и поспорим! :))) |
Цитата:
и хочется подробностей, то я готова рассказать и показать от 1926 года до нынешнего, включая то, что есть на фотке. Но на таме |
Что возбудило 5-е Упраление КГБ
на поиск жыдовской проплешины у Солженицына. http://koleso.by.ru/1/1.png УЗЕЛ I АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО (10—21 августа ст. ст). 1 Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа. Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудами складывай всё сработанное ими или даже задуманное, — не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта. От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нём рубцов и рёбер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разорванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. Потом и их размыло, Хребет вовсе изник, будто был небесным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя направления, они ехали больше пятидесяти вёрст, до полудня и за полдень, — но великанских гор перед ними как не бывало, а подступили близкие округлые горки: Верблюд; Бык; плешивая Змейка; кудрявая Железная. Они выехали ещё не пыльной дорогой, ещё росной прохладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела, вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, пошуршивала, — а вот уж к Минеральным Водам, волоча за собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мёртвый послеполуденный час, и отчётливый звук был только — мерное постукивание их: таратайки, дерево об дерево, а копытами в пыль становились лошади почти неслышно. И все тонкие запахи трав за эти часы были и перешли, а теперь настоялся один знойный солнечный запах с подмесью пыли, и так же пахла их таратайка, и сенная подстилка, и сами они — но, степнякам от первой детской памяти, этот запах был им приятен, а зной — не утомителен. Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёг, оттого на рыси их трясло и колотило, и большую часть дороги они проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, миновали и солончаковые проплешины, перекатывали пологие холмы, пересекали отлогие балки, с близкой водой и сухие, ни одной настоящей реки, ни одной большой станицы, мало кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному малолюдью, — но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно сегодня, по настроению и замыслу его, совсем не тягостны были эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать так: из-под дырявой соломенной шляпы — посверх лошадиных ушей, да придерживая возжи ненужные. ====================================== = Любители русской словесности могут заодно оценить и качество текста и сказать своё "фи!" :)) |
Читаем А.И. Солженицына.
Между тем — в городе опустели магазины, закрылись все частные лавки. Сперва говорили “мясные затруднения”, потом — “сахарные затруднения”, а потом и вовсе ничего не стало и ввели продовольственные карточки. (Учителя считались “служащие” и за то получали 400 грамм, а слабеющая мама поступила на табачную фабрику, чтоб иметь “рабочую” карточку, 600 грамм.) Очень голодно стало жить, а на базар никакой зарплаты не хватит. Да и базары разгоняла милиция. Скончалась и сама размеренная неделя: теперь натеснилась “непрерывка-пятидневка”, члены семьи — выходные в разные дни, а общее воскресенье — упразднили... “Время — впёред!” так покатило, что потеряло лицо и как бы само перестало быть. А жизнь — всё ожесточалась. По карточкам стали давать хлеба один день двести грамм, другой триста, чередуясь. Всё время ощущение голода. А, по слухам, в деревнях края был и вовсе мор. Находили на улицах города — павших мёртвыми, добравшихся оттуда. "Настенька" http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/10/solgen.html |
Читаем А.И. Солженицына.
Абрикосовое варенье (отрывки) 1 ...Нахожусь я в ошалелом рассудке, и если что не так напишу — вы всё ж дочитайте, пустого не будет. Мне сказали — вы знаменитый писатель. Из библиотеки дали книжку ваших статей. (Я школу кончил, у нас в селе.) Недосужно было мне всё читать, прочёл несколько. Вы пишете: фундамент счастья — наше коллективное сельское хозяйство, и у нас горемычный мужичок едет сейчас на своём велосипеде. Ещё пишете: героизм у нас становится жизненным явлением, цель и смысл жизни — труд в коммунистическом обществе. На это скажу вам, что вещество того героизма и того труда — слякотное, заквашено на нашей изнемоге. Не знаю, где вы всё это видели, вы и про заграницу много, как там плохо, и сколько раз вы замечали на себе завистливые взгляды: вот, мол, русский идёт. Так я вот тоже русский, зовут меня Федя, хотите Фёдор Иваныч, и я вам расскажу про себя. Отвеку жили мы в селе Лебяжий Усад Курской губернии. Но положили отруб нашему понятию жизни: назвали нас кулаками за то, что крыша из оцинкованной жести, четыре лошади, три коровы и хороший сад при доме. А начинался сад с раскидистого абрикосового дерева — и туча на нём абрикосов каждый год. И я и младшие братья мои сколько по нему полазили, любили мы абрикосы больше всякого фрукта — и вперёд мне таких уже никогда не есть. На летней кухоньке во дворе варила мать по домашеству, и варенье из тех абрикосов, и мы с братьями тут же пенками обслащивались. А когда раскулачники вымогали от нас, где чего у нас спрятано, то иначе, вот мол, лучшее дерево срубим... И порубали его. На телегах всю семью нашу и ещё несколько повезли в Белгород — и там загнали нас в отнятую церковь как.... *** ,,,В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель красочно, складно плёл требуемую пропаганду, но на свой ярко индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и Париже разные мерзости, но все- гда с убедительными деталями, а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов.) ... *** ..Однако трезво рассудить: кто сегодня не мерзавец? На том держится вся идеология и всё искусство. Какие-то сходные типовые выражения были в лекциях Василия Киприановича, а куда денешься? И особенно, особенно, если у тебя есть хоть пятнышко в биографии. У Писателя было даже заливистое чёрное пятно, всем известное: в Гражданскую войну он промахнулся, эмигрировал и публиковал там антисоветчину, но вовремя спохватился и потом энергично зарабатывал себе право вернуться в СССР. А у Василия Киприаныча почти затёртый факт, а всё же пятно: происхождение с Дона. В анкетах он это маскировал, хотя никак никогда не был связан ни с какими белогвардейцами, и даже искренний либерал (и отец его, в царское время, тоже либерал, хотя судья); но пугает само слово: “Дон”. — Так что политически можно было Писателя понять. Но — не эстетически: столь талантливый человек — как мог громыхать такой кувалдой? И с таким воодушевлением слога, будто его несла буря искренности.. http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/10/solgen.html |
11 декабря А.И. Солженицыну исполнилось бы 90 лет!
Сегодня по ТВ "Россия" фильм о нём. |
Биография А.И. Солженицына по датам.
http://www.bigbook.ru/publications/saraskina-add.php 1917, 23 августа — на фронте в Белоруссии обвенчались родители А. И. Солженицына — Исаакий Семёнович Солженицын (род. 30 мая (11 июня) 1891 года в селе Сабля Александровского уезда Ставропольской губернии) и Таисия Захаровна Щербак (род. 9 (21) октября 1894 года в Пятигорске). http://s45.radikal.ru/i110/0812/4a/3f51b4b03a3et.jpg 1918, март — возвращение И. С. Солженицына с фронта. 8 июня — случайное ранение И. С. Солженицына на охоте в окрестностях села Сабли (умер от заражения крови 15 июня в больнице города Георгиевска). 11 декабря — в день памяти преподобного мученика Стефана Нового, в городе Кисловодске, на даче И. И. Щербак по Шереметьевской улице, у Т. З. Солженицыной родился сын Александр (крещён в кисловодском храме святого целителя Пантелеймона). 1919, начало года — в селе Сабля умер дед Семён Ефимович Солженицын (род. в 1854 году). 26 февраля — в Новочеркасске родилась Н. А. Решетовская. До конца года — Т. З. Солженицына с сыном живут в станице Новокубанской в поместье З. Ф. Щербака. 1920, начало года — Семья оставляет поместье и перебирается в Кисловодск, в дом М. З. и Ф. И. Гориных (Бородинский переулок, 3; тогда — улица Льва Толстого, 4). 1921 — Таисия Захаровна, оставив сына на попечение родных, уезжает устраиваться на курсы машинописи и стенографии; находит работу в Ростове-на-Дону. 1921, декабрь — первое детское воспоминание: во время службы в храме Пантелеймона-целителя чекисты ворвались в алтарь и, прервав литургию, занялись изъятием церковных ценностей «в пользу голодающих». 1924, вторая половина года — http://i051.radikal.ru/0812/6b/2bf6ffe3c45at.jpg несколько месяцев живёт в Новочеркасске у тёти Ирины и дядя Романа. |
Утренний дождь вчера очень быстро превратился в ливень. И когда я около 11 утра подошел к входу в Академию, то почти никого не увидел. Человек, может, тридцать мокли у входа. Милиционеры не пускали их и постоянно направляли направо и за угол, где был служебный вход и где мокли примерно столько же журналистов. Я видел, как у людей уже сдают нервы, и уже слышал "что ж вы, ..., не даете проститься с человеком...". А милиционеры делали, что им велели,— без особого усердия, но и не против своей воли. Им велели никого пока не пускать. До 11 что ли. ...
(продолжение и окончание http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1008337&NodesID=7) |
Дай, Бог, каждому.
http://i045.radikal.ru/0812/61/1ab7dffbe1d2.jpg ---------------------- http://s41.radikal.ru/i093/0812/37/97f6d4c96ab4.jpg |
Чечня.
http://solzhenicyn.ru/modules/pages/...tyu_smutu.html "... Конкретно о Чечне хотели от меня услышать. О Чечне я четыре раза публично выступал, а еще гораздо раньше четыре года с лишним назад президенту по телефону говорил. Как только Чечня зашевелилась, что она хочет независимости, я сказал: "Сейчас же дайте...". Дайте, это будет полный образец для Чечни и для сохранения государства. Только отдайте без казачьих земель, потому что Хрущев в пьяном виде подписал (бедные чеченцы только что вернулись) дать им казачьи земли. А еще недавно в Совете федерации я сам впервые узнал, что в том, что входит собственно в Чечню, тоже есть казачьи земли. Открыли сейчас приказ Орджоникидзе выселять казаков из Чечни до Сталина. При Ленине Орджоникидзе выселял казаков из тех же Самашек. Так и Грозный был тоже русским городом, а не чеченским. Ну ладно, пусть останется у Чечни, так хотя бы казачьи-то земли отдайте? Так нет совершенно под каким-то ложным гипнозом: если только Чечню отпустим, тогда развалится Россия... А оно как раз наоборот. Правильно было бы тогда укрепить Россию, потому что Чечня, сразу оказавшись независимой, только разве что на деньги Саудовской Аравии могла бы встать на ноги. А так бы интересно, как бы она стала независимым государством, как она стала бы выступать на международной арене, из чего бы она себя построила. И всем был бы урок. Трудно отделяться. Вот сейчас почему СНГ держится - это эфемерное образованье, дунь и рассыпься? Держится, потому что экономически продолжает сосать нас. Мы продолжаем их кормить, а они нас последними словами посылают и прижимают русских граждан. Но мы продолжаем их кормить. Так и многие республики пограничные держатся, потому что мы продолжаем их кормить. А из-за того, что не дали Чечне независимости, нельзя было о Крыме слова сказать. Попробуем защищать Крым, а нам скажут: "А в Чечне у вас что?". Лучше пусть пропадет Крым, но будем держать Чечню. И держали. А как держали. Вот сейчас шесть лет, как у них объявили независимость. Первые три года нефтяной завод там работает, наша тюменская нефть туда идет, деньги куда-то уходят. Кто-то с кем-то завязался: Москва - Грозный. А в это время выселяли русских, захватывали их квартиры, грабили, убивали, насиловали. Наши правозащитники знаменитые сидели тише воды ниже травы. Ни один наш правозащитник (потом одного из них даже на Нобелевскую премию выдвигали) не говорил: "Слушайте, да там же сейчас идет геноцид русского народа". Так три года тянулось. Потом вдруг совершенно неожиданно, неизвестно по каким причинам развязалась война. В запрещенной телевизионной передаче я и говорил, что не понятно, почему Чечню три года терпели. Все это тайны, которые станут явными для вас, молодежи, через тридцать лет. ..." |
О Чечне (продолжение).
http://solzhenicyn.ru/modules/pages/...tyu_smutu.html Начали эту войну, бездарную, предательскую, войну, которую вести было невозможно. Ну а что сейчас? И сейчас же не говорят, чтобы хотя бы отдали нам казачьи земли назад. Нет, мы говорим, хорошо, пусть через пять лет решится ваша судьба. Мы пять лет будем на вас работать, мы сейчас вам все отдаем, мы будем вас кормить, поить, строить, снабжать, вместо Саудовской Аравии, вместо Арабских Эмиратов. А через пять лет вы будете свободно голосовать, когда всех русских уже выкинете. Надо сейчас дать, сразу дать независимость, а казачьи земли забрать. Да, конечно, Чечня - нам позорный урок. Это, действительно, военное поражение большой России от Чечни. А почему военное поражение? Потому что бездарное генеральское руководство и развал армии. А кто же больше всего против армии воевал? Наши либерал-демократы. Самый главный наш крах - это армия, наша армия. Если вы почитаете, что писалось в 1991 году, то увидите стремление оплевать ее, изгадить всячески, обвинить, снять ее с довольствия, не платить денег, разогнать. Я теперь возвращаюсь приблизительно к тому, с чего я начал. Сейчас ужасающе тяжелое время. Почему мне хотелось послушать молодежь, и, в общем, я разочарован, я не слышал. Потому что я хотел знать ее мнения, есть ли они у нее и какие. Я слушаю все время людей с опытом, с десятилетиями опыта, а все-таки, как же молодежь представляет себе будущее России, свое собственное и образование. А вот, кстати, об образовании я забыл сказать... Мы переживаем третью смуту. Первая смута была XVII века, мы из нее вышли благодаря тому, что народ наш был самодеятельным. Вторая смута была семнадцатого года, в ней мы попали в рабство и на семьдесят лет закабалились. Но и следующие десять лет нас не раскрепостили. Что те семьдесят, что эти десять - только сменилась форма болезни. Вот так вот в смуте и находимся. Так вот я очень жалею, что не слышал молодежи. |
Что такое -- СВОБОДА.
http://solzhenicyn.ru/modules/pages/...tyu_smutu.html Свобода - какое великое слово, как мы его любим употреблять. А что такое свобода и как ее понять? Есть свобода внутренняя. Есть свобода внешняя. Свобода внутренняя заложена в нас самих, и свободы внутренней никто не сможет лишить. Свобода внутренняя дает человеку возможность действовать прямо против враждебной ему среды. А свобода внешняя, которую так воспевают, это не цель человечества. Это только форма, в которой можно лучше проявить свои качества, чтобы сделать их полезными для других. Свобода только тогда имеет смысл, когда над нами есть нравственная задача. Если свобода для выполнения нравственных задач - это свобода добрая, а если свобода без нравственной задачи - тогда это разврат и та разнузданность, которые сейчас разлились. Нам объявили свободу. А в чем свобода? Свободы политической - нет, свобода слова - тоже нет, потому что все на привязи у тех, кто платит. А вот свобода проявления нашей собственной души... Нравственные задачи должны стоять выше. Итак, мы попали в плен новой идеологии. Говорят - рынок. Рынка я пока еще, честно говоря, не вижу, потому что - сплошной грабеж разбросанного национального добра. Хватай национальное добро, кто хочет, и продавай за границу - приватизируй за 1 за 2 процента стоимости. Это не рынок. Был в России начала ХХ века прекрасный рынок, без всяких теорий рынка, без всяких насадителей рынка. Все работали, процветали купеческие города. Это и был рынок - и в той же самой Твери. А вот рыночную идеологию, зверскую идеологию, мы уже переняли. Вот это мы схватили. После коммунистической - рыночная: если можно родителя потопить, ради своей жизни - топи, а уж соседа - тем боле топи. Если свобода выше нравственности, то мы вообще животные, а не люди. Нравственность должна быть выше. Конечно, должно быть у всех у нас правосознание - понятие о законе. Нашему народу, как никакому, не хватает правосознания. Романовские столетия не дали нам правосознания, они нас лишили правосознания. Но и когда у нас правосознание появится, то надо же понимать, что закон не знает таких понятий, как благородно и подло. А у нас ведь, если по закону хотя бы чуть-чуть нормально, есть адвокат - то не подкопаешься... Если нет понятия благородности, подлости, честности (а в законах этого нет), то надо понять, что правосознание - это еще недостижимый уровень для нашего народа. Даже в таких основных понятиях мы плутаем, мы не можем себе выбрать стройного миропонимания. А мировая цивилизация, которая настолько нас обогнала, она ведь развивается в вакууме уже третий век. И именно духовности не хватает мировой цивилизации, всему человечеству не хватает духовности |
Украина - это моя такая боль.
http://solzhenicyn.ru/modules/pages/...tyu_smutu.html Мне очень больно говорить. Вот как Германию рассекли после войны, и они жили разрезанные на два куска и соединились через 40 лет. Так и мы - не знаю через сорок лет соединимся или нет. Столько загублено! Можно было бы отстаивать Крым, в том смысле, что там вообще сплошное русское настроение и население почти что русское, лишь небольшое количество татар. Сейчас слово Новороссия никто не знает. Одесская и Херсонская области - это Новороссия, которая никакого отношения к Украине никогда не имела. Все, что от Мелитополя - юг, Донбасс и Крым никакого отношения к Украине не имеет. Но Ленин нарезал границы для того, чтобы успокоить украинцев, чтобы они коммунизм не подавили. Но в одночасье, в одну минуту внутренние административные границы нашей страны стали государственными. То есть мир с радостью признал их государственными, с радостью - наконец-то Россия - это страшное государство - разваливается. Вплоть до того, что американский госдепартамент заявляет - Севастополь принадлежит Украине. Ну откуда он знает... На каком основании он вмешивается. Севастополь никогда не принадлежал Крыму, он прямо Москве подчинялся. Крым Хрушев подарил, а Севастополь? Так вот - Вашингтон дарит Севастополь Украине, а мы молчим. А мы все время только флот делим и делим. Он скоро вообще никому не нужен будет, устареет. Украина и Казахстан... - много там бедствий, но так как в мире радуются нашему ослаблению, то восточные деспотии сегодняшней Средней Азии на Западе считаются демократиями. И Украину считают образцом демократии. А вот у нас демократия под сомнением. И правильно под сомнением - какая же она демократия... |
О государстве и народе..
Государственное устройство - второстепеннее самого воздуха человеческих отношений. При людском благородстве - допустим любой добропорядочный строй, при людском озлоблении и шкурничестве - невыносима и самая разливистая демократия. Если в самих людях нет справедливости и честности - то это проявится при любом строе. :))) |
Протопресвитер Александр Шмеман об Александре Солженицыне.
"И снова - со страстью - о евреях! Почти idee fixe: не дать им еще раз заговорить нас своей идеологией. Но, вот, надо признать, что и тут - правда и простота. Когда евреи увидели, что ими в значительной степени созданный режим не удался и по ним же - в лице Сталина - ударил, они "перестроились": это режим русский, это русское рабство, это русская жестокость… Отсюда - недоверие к "новым": все они антирусские в первую очередь." http://solzhenicyn.ru/modules/pages/...r_SHmeman.html |
Кстати, об Александре Шмемане.
= На днях прошёл повтор фильма Никиты "Версальские кадеты". И все, конечно, запомнили высокого старика: Андрея Шмемана -- того самого последнего подданого Российской Империи, который не принял гражданства Франции, ибо россиянин. Настолько русский, что не будучи бедным, разъезжает по Парижу на "вазе". Увы, разъезжал. 7 ноября этого года он умер, похоронен на Сен-Женевьев де Буа под общей стелой "Кадеты". Так вот. Андрей Шмеман -- брат-близнец отца Александра, крупнейшего русского богослова-философа и друга Исаича. http://kadet2dkk.ucoz.ru/adsh.jpghttp://zarubezhje.narod.ru/photos1/Shmeman1.jpg ============================================ http://kadet2dkk.ucoz.ru/_ph/2/2/935294455.jpg Кадетские погоны Корпуса-лицея императора Николая II "Андрей Шмеман Председатель объединения кадет корпуса Императора Николая II Глубокоуважаемый ............! Я имею честь сообщить Вам, что на состоявшемся 24 мая Общем собрании кадет корпуса Императора Николая II во Франции кадеты единогласно постановили, что Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус в Ростове-на-Дону имеет право считать себя преемником их корпуса. ..................... Париж, 15 июля 1997 г." ======================================== Вот они -- преемники прославленного кадетского корпуса-лицея с вензелями НII на погонах http://kadet2dkk.ucoz.ru/_ph/2/2/765670378.jpg http://kadet2dkk.ucoz.ru/_ph/2/2/963421489.jpg ============================ Вот такая связь времён, имён, традиций и знамён России! :)) |
= Не могу удержаться!
Ещё пару снимков. До того ж славные! http://kadet2dkk.ucoz.ru/_ph/2/2/788264979.jpghttp://kadet2dkk.ucoz.ru/_ph/2/2/796397668.jpg http://kadet2dkk.ucoz.ru/_ph/2/2/500670644.jpg http://kadet2dkk.ucoz.ru/_ph/2/2/452894568.jpg |
Неожиданное! Солженицын как литературный критик.
Двоенье Юрия Нагибина (отрывок для затравки :) ) ...За пройденные годы мастерство Нагибина усовершалось и оттачивалось, но всегда в рамках советской благопристойности, никогда и ни в чём, ни литературно, ни общественно, он не задевал вопросов напряжённых и не вызывал сенсации. Такое он совершил лишь в 1994 выходом своей последней, уже посмертной, книги из двух повестей: “Тьма в конце туннеля” и “Моя золотая тёща”. Это, вероятно, наиболее интересное изо всего, что Нагибин написал за всю жизнь. Весьма любопытна первая повесть, а вторая приобщает лишь дополнительные краски для впечатлений о писателе, прожившем более 70 лет в СССР. Материал “Тьмы” — сплошь автобиографичен, и можно поверить автору, да это и видно: он старается, с большой психологической самопроработкой, быть предельно откровенен о себе, своих чувствах и поступках разных лет, но отобранных по стержню одной темы, именно: еврейской в СССР. Эта тема, как мы теперь узнаём, кипела в нём десятилетиями, никогда не прорвавшись вовне. “Тёща” — тоже автобиографична (жизненные обстоятельства повествователя легко совмещаются там и здесь), но события и чувства отобраны по другому стержню, эта вторая повесть — “история моей сексуальности”, в преодоление “тошнотворных сексуальных табу”; повествователь находится в неотступном эротическом бреду, и: даже “старый, больной, умирающий, я трепещу былым трепетом”, хотя уже, глядя в зеркало, “не верится, что так можно износить свой земной образ”. Да и мы от прочтения “Тёщи” испытываем пустоту. Однако и признаем: тут Нагибин достиг своего лучшего. Силы слога он не утратил до самой смерти, весьма изобретателен в словесности, не всегда, но в аккордных местах, куда вкладывает главное чувство: “округлая дароносица живота” (желанной тёщи), “кудрявый этот лес рассекало опаловое ущелье с живым, будто дышащим кратером; скважина и глубоко запрятан зев вулкана”, “накалывал её [тёщу] через потолок [совокупляясь с женою на 2-м этаже] на раскалённый шампур страсти”; впрочем, и не всё же на прямых откровенностях: “несовершенно представление о женской красоте, если из него изъято средоточие тайны”. — Встречаются яркие портреты, в изложении ему не отказывает остроумие, мелькает и юмор. В “Тёще” оставил он нам несравненные картинки замкнутой номенклатурной среды; не побывав там, средь них, такого не выдумаешь, не догадаешься (жадный расхват ношеного американского тряпья, крайняя грубость пиров, шуток, и это — “бренча орденами, как коровье стадо колокольчиками”). Отмечает у себя “большую любовь к природе”, и правда же чувствовал её, тут его питали и многочисленные охотничьи переброды, вот у него и гроза хороша, и “зелёные облака вокруг брачащихся сосен, осыпая пыльцой восковистые свечки”. Лексические возможности у Нагибина изрядные, использует он их неровно, но и без натуги; даже из этих повестей можно выписывать и выписывать: ножевой выблеск взгляда, людская несметь, оскальзывать взглядом, бездождный, вманчивый, рухнув сердцем, надвиг, наволочь, громозд, в обставе, скрут, вздрог, промельк, укромье, наподлив, взвей (сущ.), посмеркло, вклещиться, безпреградность, непрокашлянный голос, изнеживающее безумие и др. = Дальше читайте сами http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2003/4/sol.html и веселитесь. Я до сих пор хохочу, порадовал Пророк. :))) Обсудить можно будет на Главном, в моей ветке -- приложении к блогу. |
http://koleso.by.ru/1/1.png
О "Красном Колесе" рассказывает редактор-составитель собрания сочинений http://www.portal-credo.ru/site/jpg.php?id=51280 Наталья Дмитриевна СОЛЖЕНИЦЫНА. — Александр Исаевич Солженицын считает главной своей книгой не "Архипелаг ГУЛАГ", но "Красное Колесо". Почему? — "Красное Колесо" — книга, параллельная всей его жизни.18 ноября 1936 года возник замысел: "Я буду писать роман о русской революции". Восемнадцатилетний студент начал с глав о боях в Восточной Пруссии в 1914-м. В 1944-м именно в Восточную Пруссию — по совпадению! — пришел он сам со своей батареей. Потом был арест. В Бутырской тюрьме, на пересылках, на шарашке, в лагерях Солженицын расспрашивал старших о Семнадцатом годе. И вот это был его вектор. Он его оседлал, пришпорил и летел на нем. Материал "Архипелага"… его было так много! Он просто заставил выполнить очевидный долг, который наложила на автора его судьба. Но вела Солженицына всю жизнь именно мысль: понять, как происходила катастрофа Семнадцатого? Каков ее механизм? Повторяем ли он? Был это рок или нет? Революция в России не могла не произойти — или могла не произойти? В 1970-х он записал: "Поразительно, что за 60 лет не написано в художественной литературе о таком великом событии, как Февральская революция, практически ничего… Так много мемуаров (россыпь), исследований — а романа нет. Такова сила заслоненности (позднейшими событиями). Все эти груды от современников лежат и томятся, как будто ждали меня". Мощная скрупулезность хроники ломает миф о "великой бескровной". "Мартобрь" 1917-го: 11 тысяч самосудов. Кронштадт и Гельсингфорс: число убитых офицеров — половина от числа офицеров, погибших при Цусиме. Петроград: расправы с городовыми. Директор Путиловского завода утоплен: хорош спину гнуть! Общинники громят хутора отрубников — "столыпинских помещиков". ...До 1922 г. погибнут около 15 миллионов. Читать здесь. |
Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫНhttp://sila.by.ru/200.jpghttp://sila.by.ru/ais.jpg
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ *** ЧАСТЬ ВТОРАЯ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ Полный текст. Критика. (ссылка) |
Артур Фредекинд (Израиль)
СМЕРТЬ, КОТОРУЮ МНОГИЕ ДОЛГО ЖДАЛИ ...Всего больнее - его книги не стали настольными книгами ни историков коммунизма, ни интеллигенции. Интеллигенции, вымазанной по уши коллаборацией не только с режимом коммунистов, но и с режимами различных спецслужбистов, прикрывшихся национальными флагами, чтобы выманить помощь как у Европы, так и у Америки. Читают его книги те же пропагандисты для того, чтобы вырвать цитаты из контекста и яростно критиковать, не разумея и не желая понимать ни его боли, ни его предложений. Сколько в Украине и Казахстане "членов союза писателей" рвали на себе волосы, упрекая гения в шовинизме! А что, собственно, он написал? Разве призывал делить Украину, или был против ее независимости? Нет, всего лишь написал правду: многие восточные и южные земли присоединены к Украине Лениным, и если там те же "члены" из подзабытых 70-х годов будут внедрять украинскую культуру глупо и по-большевистски, - то культура Украины будет только страдать, и сама страна будет погружаться в болото провинциализма и отсталости. Разве не так сейчас? И разве "члены" этого не знают и не видят? Сколько в Израиле, в США и Германии бывшие работники всевозможных "правд" (и комсомольских, и рабочих, и московских) выискивали в его работах антиеврейские нотки и трубили по всему миру - "вот он голос русских антисемитов, фашистов, ату их! Спасайте евреев от России!", а в это время кого только ни громили - и чеченцев, и грузин, и армян, и русских, но евреев никто пальцем не тронул, откуда же столько страха и столько ненависти? О которой он и писал, описывая создателя ГУЛАГа Френкеля не как еврея, а как человека. Разве это была неправда? Разве не было и нет среди евреев людей, которым слишком осточертели лапти да самовары с иконами? Я первый среди них - признаюсь и каюсь. Культуры не борются, как придумали это когда-то нацисты и как злобно мечтал Ленин о "культуре пролетарской и культуре буржуазной". Культура едина, и нет Шевченко без Брюллова, как нет Шолом-Алейхема без Короленко, а Стуса без Рильке и Бродского. А сколько неукротимого сатирического яда выдавливали на него те, которые не знают, что такое зэковская пайка? Не знают однозначности зэковской психологии, презрения к буржуазному уюту, к "цивильным" вечеринкам, культурненьким и приличненьким? Очень возможно, что качество это из лагерей вынесенное - далеко не лучшее, однако понять-то его можно. Не знают, что для зэка любая газета... ПОЛНЫЙ ТЕКСТ(ссылка) |
Чудный рассказ! Просто чудный! Нина Воронель ВЕНОК НА МОГИЛУ РЕТРОГРАДА Умер Александр Солженицын. Его похороны превратили в России в торжественное всемирное действо, будто не его высылали когда-то оттуда в специальном самолете, не объясняя, куда везут. Какую станцию ни включи - хоть CNN, хоть BBC - с экрана телевизора на меня глядит лицо жены, нет, уже вдовы писателя, Натальи Дмитриевны, осунувшееся и заплаканное, в обрамлении черного вдовьего платка. И я вспоминаю, какой молодой и красивой выглядела она шесть лет назад, в 2002 году, когда приехала за нами в московский отель, чтобы отвезти нас в их загородный дом, где нас ждал Александр Исаевич. Приглашение посетить великого писателя в случае нашего визита в Москву мы получили загодя, еще в Израиле. Наши отношения с Солженицыным уходят в далекую глубь лет - он всегда был подписчиком журнала "22", а за год до нашего приезда в Москву отправил в подарок моему мужу, Саше Воронелю, первый том своей нашумевшей книги "Двести лет вместе". К ней было приложено письмо: "Уважаемый Александр! (а отчества Вашего не знаю, простите!)... Посылаю Вам книгу, шлю ее Вам - как бы хорошо знакомому человеку: читал я и книги Ваши и все статьи в "22", какие были. Очень понятен и доступен мне эмоциональный настрой, с которым Вы пишете. Высоко ценю Вашу проницательность и Ваше перо. Всего Вам доброго! А.Солженицын". Хоть приглашение было отправлено нам обоим, я не сомневалась, что оно предназначено только Саше - ведь он написал несколько статей, посвященных творчеству Солженицына. И мне по сей день кажется, что никто так глубоко и тонко не проник в суть замыслов писателя, в сложную систему его сознательных и подсознательных ассоциаций. Солженицын не лукавил, утверждая, что читал все статьи Воронеля - какой писатель, пусть даже самый великий, откажется от удовольствия читать о себе, любимом? Но когда мы пили чай у них в библиотеке, я не удержалась и похвасталась, что тоже написала статью о классике. Классик чуть наклонил голову: - Наташа, принеси! Наташа поняла без объяснений и, не тратя даже минуты на поиски, вытащила из какой-то папки журнал "22" с моей статьей, густо размеченной по полям чернилами разных цветов. Значит, и моя статья было тщательно прочитана и обдумана! Значит, и меня пригласили на это чаепитие как автора, а не просто как жену! Но это я забежала вперед с чаепитием, ведь до него нужно было еще доехать - сперва через Москву по диагонали, а потом по шоссе около часу. Всю дорогу мы весело болтали с Натальей Дмитриевной, будто век до того были знакомы - а виделись-то всего один раз, когда пришли просить, чтобы Солженицын заступился за Сахарова. Накануне к Сахарову явились с угрозами ребята в куфиях, с пистолетами, и, назвавшись представителями организации "Черный сентябрь", потребовали, чтобы Сахаров отступился от еврейского движения. Можно ли в такое поверить - в Москве 70-х годов, в куфиях, с пистолетами и без разрешения властей? Наталья Дмитриевна тоже не поверила: это не "Черный сентябрь", а "Красный октябрь" - очень точно определила она. К следующему дню мы получили из ее рук письмо Солженицына в поддержку Андрея Дмитриевича и быстро передали его иностранным корреспондентам. Потому ли, не потому ли, но ребята в куфиях больше к Сахарову не заглядывали. Так, вспоминая прошлое и обсуждая настоящее, мы доехали до шлагбаума, охраняемого солдатами, - это был поселок, в котором построил свой российский дом Солженицын. Ворота, запирающие участок Солженицыных, были обыкновенные - деревянные, без какой бы то ни было современной автоматики. Участок выглядел довольно запущенным, но высокие деревья, окаймляющие подъезд к дому, приветливо махали нам развесистыми лапами. Поднявшись на крыльцо, мы прошли через элегантную, облицованную светлым деревом гостиную и замерли - плотно прижавшись лицом к огромному оконному стеклу, простирающемуся вдоль всей задней стены, в гостиную глядел беспросветный еловый лес. Стекло было таким прозрачным, что лес, казалось, и образовывал эту заднюю стену. Он был, пожалуй, единственной роскошью солженицынского дома. Прервав наше оторопелое созерцание лесной стены, Наталья Дмитриевна провела нас в деловой рабочий кабинет историка, умело объединенный с библиотекой: среди плотно уставленных книгами застекленных шкафов пристроились стенды с картотеками и четко пронумерованными папками с документами. Единственным нарушением строгого рабочего порядка кабинета выглядел большой овальный обеденный стол с приготовленным для чаепития чайным сервизом. Стол был сервирован на четверых. Это поразило меня в самое сердце - эпохи смешались в моем потрясенном сознании. Смела ли я когда-нибудь надеяться, что для меня будет сервировано чаепитие в кабинете самого Александра Солженицына, который в моем сознании был скорее мраморным кумиром, чем человеком из плоти и крови? Пока я уговаривала себя не тушеваться, припоминая, что в домах Корнея Чуковского и Андрея Сахарова меня тоже не раз потчевали чаем, откуда-то из глубинных комнат зазвучали тяжелые неровные шаги. Я стояла в дальнем затененном углу библиотеки. Не видя меня, Александр Исаевич вошел в смежную с библиотекой комнату, согнутый в две погибели - буквой "Г", как кочерга. Подойдя к двери, он взял в руку приготовленный у входа посох и с усилием разогнулся, в глазах его было такое страдание, что мне стало за него больно. Зато порог библиотеки он переступил стройным молодцем, разве что слегка опираясь на свой посох, как щеголь на трость. Тот, кто не видел до того его страдальческих глаз, мог бы в эту лихаческую позу поверить - но только не я. Мы сели к столу, Наталья Дмитриевна разлила чай, и беседа полилась легко и непринужденно. Саше Солженицыну и Саше Воронелю было о чем поговорить, хоть по жизни один был Саня, а другой Шурик. В наш расистский век это очень важное различие - Саня и Шурик, представители разных миров. Но оно не помешало собеседникам найти общий язык. Особенно много говорилось о манихействе, то есть о понимании добра и зла - ведь Шурик назвал Саню первым манихеем в русской литературе. Хотя и Достоевский в свое время то тут, то там живописал злодеев, он никогда не позволял им восторжествовать в жизни, по ходу дела (иногда даже во вред правдоподобию) принуждая к самоубийству. Солженицын впервые в русской литературе позволил себе описать полноценное торжество зла в отдельном человеке и в обществе. Саня определение Шурика отверг, - по-моему, больше для виду, чем по сути, - утверждая, что зло у него не самодостаточное, а вынужденное обстоятельствами, чем, собственно, только подтвердил тезис Шурика. Мысль о зле напомнила ему о собственных обидах: - С чего это московские либералы так на мою новую книгу взъелись? Я ведь старался быть объективным! - пожаловался он. - Особенно этот Бен Сарнов! Я его в глаза не видел никогда, а он на меня, как зверь, бросается. Вот тебе и на! Говорит, никогда не видел, а ведь именно Бен Сарнов познакомил когда-то нас с Солженицыным, тогда еще молодым и только восходящим к мировой славе. Бен уже тогда эту славу провидел, и страшно гордился своим блестящим знакомством. Каково же ему было через сорок лет услышать, что Солженицын его начисто забыл? А ведь немудрено и забыть - мало тот, что ли, критиков перевидал за свой долгий век? Тем временем Наталья Дмитриевна поставила на стол большое блюдо с тоненькими пирожками особой удлиненной формы, похожими на высунутые языки: - Попробуйте мою сдобу, - сказала она. - Я их специально для вас испекла - с яблоками и с творогом Дальше -- тут! |
Цитата:
Кто? Как? Почему? Не знаю! Найду другой -- выложу. |
|
Спешите прочитать или скачать!
(Кто-то целеустремлённо удаляет из Инета этот текст.) Цитата:
Часть первая. Ссылка пока работает. |
Исаич о Галиче.
"Отобразитель интеллигентского настроения". Предостережение евреям о существующей для них, по мнению Галича, угрозе Соловков было резко осуждена А.Солженицыным, знавшим, что в момент создания концдагеря в Соловках евреев-заключенных почти не было, зато среди руководства лагеря, кураторов лагеря, "в камергерах и в Сенате" их было множество. А.Солженицын разъясняет: "...Галича советско-германская война застала в 22 года. Он рассказывает: был освобождён от воинской повинности по здоровью, уехал в Грозный... Вспоминает, как не раз выступал в санитарном поезде, сочинял частушки для раненых, после концертов пили спирт с симпатичным начальником поезда в его купе... Кончилась война — стал известным советским драматургом, 10 его пьес поставлено "большим количеством театров и в Советском Союзе и за рубежом", — и сценаристом, участвовал в создании многих фильмов. Это — в 40-50-е годы, годы всеобщей духовной мертвизны, не выбиваясь же из неё? И о чекистах тоже был у него фильм, и премирован. Но вот с начала 60-х годов совершился в Галиче поворот... ля авторского "я" он нашёл, точно в духе времени, форму перевоплощения: отнести себя — ко всем страдавшим, терпевшим гонения и погибшим. "Я был рядовым и умру рядовым"; "А нас, рядовых, убивают в бою". А долее всего, казалось, — он был зэком, сидел, много песен от лица бывшего зэка: "а второй зэка — это лично я". "Я подковой вмёрз в санный след, в лёд, что я кайлом ковырял! Ведь недаром я двадцать лет протрубил по тем лагерям" — так что многие и уверены были, что он оттуда: "у Галича допытывались, когда и где он сидел в лагерях" ( В.Волин. Он вышел на площадь. Галич ). И как же он осознавал своё прошлое? своё многолетнее участие в публичной советской лжи, одурманивающей народ? Вот что более всего меня поражало: при таком обличительном пафосе — ни ноты собственного раскаяния, ни слова личного раскаяния нигде! — И когда он сочинял вослед: "партийная Илиада! подарочный холуяж!" сознавал ли, что он и о себе поёт? И когда напевал: "Если ж будешь торговать ты елеем" — то как будто советы постороннему, а ведь и он "торговал елеем" полжизни. Ну что б ему отречься от своих проказёненных пьес и фильмов? — Нет! "Мы не пели славы палачам!" — да в том-то и дело, что — пели. — Наверное, всё же сознавал, или осознал постепенно, потому что позже, уже не в России, говорил: "Я был благополучным сценаристом, благополучным драматургом, благополучным советским холуем. И я понял, что я так дальше не могу. Что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду...". А ещё по-настоящему в нём болело и сквозно пронизывало его песни — чувство еврейского сродства и еврейской боли: "Наш поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно". "На реках вавилонских" — вот это цельно, вот это с драматической полнотой. Или поэма "Кадиш". Или: "Моя шестиконечная звезда, гори на рукаве и на груди". Или "Воспоминание об Одессе" ("мне хотелось соединить Мандельштама и Шагала"). Тут — и лирические, и пламенные тона. "Ваш сородич и ваш изгой, / ваш последний певец Исхода", — обращается Галич к уезжающим евреям. Память еврейская настолько его пронизывала, что и в стихах не-еврейской темы он то и дело вставлял походя: "не носатый", "не татарин и не жид"... Но ни одного еврея преуспевающего, незатеснённого, с хорошего поста, из НИИ, из редакции или из торговой сети — у него не промелькнуло даже. Еврей всегда: или унижен, страдает, или сидит и гибнет в лагере. И тоже ставшее знаменитым: Не ходить вам в камергерах, евреи... Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате. А сидеть вам в Соловках да в Бутырках. И как же коротка память — да не у одного Галича, но у всех слушателей, искренно, сердечно принимающих эти сентиментальные строки: да где ж те 20 лет, когда не в Соловках сидело советское еврейство — а во множестве щеголяло "в камергерах и в Сенате"! Забыли. Честно — совсем забыли. О себе — плохое так трудно помнить. А поелику среди преуспевающих и доящих в свою пользу режим — евреев будто бы уже ни одного, но одни русские, — то и сатира Галича, бессознательно или сознательно, обрушивалась на русских, на всяких Климов Петровичей и Парамоновых, и вся социальная злость доставалась им в подчёркнутом "русопятском" звучании, образах и подробностях, — вереница стукачей, вертухаев, развратников, дураков или пьяниц — больше карикатурно, иногда с презрительным сожалением (которого мы-то и достойны, увы!)... всех этих вечно пьяных, не отличающих керосин от водки, ничем, кроме пьянства, не занятых, либо просто потерянных, либо дураковатых. А сочтён, как сказано, народным поэтом... И ни одного героя-солдата, ни одного мастерового, ни единого русского интеллигента и даже зэка порядочного ни одного (главное зэческое он забрал на себя), — ведь русское всё "вертухаево семя" да в начальниках..." ( А.И.Солженицын. Двести лет вместе. Ч.2. В Советское время. Глава 24 — На отколе от большевизма. ) ========================== = Браво, Александр Исаевич!:ruki: Весь пафос "инакомыслия" слетел, как пыльца с крыльев бабочек. ***"Позолота вся сотрётся -- свиная кожа остаётся" (Г-Х Андерсен) |
"Коль славен наш Господь в Сионе"
В день отпевания и похорон А.И.С. в Донском монастыре звучали церковные песнопения и военная музыка духового оркестра. Когда отгремел салют, оркестр заиграл пронзительную мелодию, прозрачные, торжественные и щемящие звуки старого русского духовного гимна. Это была воля самого писателя, чтобы над его гробом звучал этот русский гимн и не произносили никаких речей. Слова М. М. Хераскова (1733-1807), музыка Д. С. Бортнянского (1751-1825). Официальный гимн Российской империи. Исполнялся на торжественных церемониях, входил в военный ритуал производства юнкеров в офицеры, звучал после артиллерийского залпа и сигнала горнистов "На молитву, шапки долой!" С 1856 по октябрь 1917 года Спасская башня Московского Кремля ежедневно в 15 и 21 час вызванивала "Коль славен", а в 12 и 18 часов - "Преображенский марш". В 1833 году официальный статус государственного гимна закрепился за "Молитвой Русского народа" ("Боже, Царя храни!") В. А. Жуковского на музыку А. Ф. Львова, но "Коль славен" продолжал сохранять свое значение в качестве церемониального гимна. "Коль славен..." своей душевностью и хрустальной чистотой создавал возвышенное настроение. Предполагают, что мелодия была создана между 1790 и 1801 гг. Прослушать "Коль славен..." (соло) ============= NB!!! Послушать "Коль славен..."( мужской хор. Института певческой культуры "Валаам") |
[u]Наум Ним
"ТЯЖКАЯ УЧАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ CОЛЖЕНИЦЫНА"[/U] Index Представьте себе такую картинку. 1980 год. Отделение милиции. Входит начальник отделения и обращается к дежурному капитану. - Ну, чем занят? - Да вот, читаю Солженицына. - Ха-ха-хм... Смотри - дошутишься, Геннадий Сергеевич... Уверяю вас - все именно так и было. И, хотя Геннадий Сергеевич сам по себе имел склонность эпатировать окружающих, не уверен, что он вел бы себя столь рисково - не будь до этого долгих наших споров на тему Солженицынского эссе "Жить не по лжи". Этот текст удивительным образом предоставлял любому человеку надежную опору для необходимого самоуважения. Выявляя облепившую нас ложь как основную форму общего нашего соучастия во всех мерзостях родимого отечества, автор предлагал своему читателю вполне реальный способ разорвать эту круговую поруку. Разорвать и - перестать быть соучастником, как бы - стать невиновным. Как бы - получить индульгенцию. Но и больше, больше - автор предлагал путь совсем не гибельный: у читателя была возможность отказаться именно от той лжи, которую он сам и определяет ложью. То есть, если, к примеру, ты не считаешь лживой всю пропагандистскую шумиху по поводу интернационального долга в Афганистане, то и участвуй себе на здоровье, хоть и до собственного превращения в "груз 200". По крайней мере, сам авторский текст вполне позволял и такое прочтение, и такое понимание. Об этом мы с Геннадием Сергеевичем и спорили. К слову сказать, он все-таки "дошутился". Через пять лет после описанного эпизода он отказался давать показания, уличающие меня в распространении "клеветнических измышлений, порочащих советский общественный строй", был уволен из МВД, а потом у него произвели обыск и по результатам обыска возбудили уголовное дело. Обнаружили у него более тысячи книг с библиотечными штампами и два томика "Архипелага". Это был "Архипелаг" известного грузинского тиража, переплетенный мною, без каких-либо надписей на обложке и без титульных страниц. А библиотечные книги, изъятые при обыске у Геннадия Сергеевича, оказались сплошь партийной литературой (стенографические отчеты съездов, материалы конференций, сборники партийных документов, исторические и псевдоисторические труды о советском периоде). Обвинили его в хищении (библиотечные книги) и в хранении антисоветской литературы (два тома "Архипелага"). На следствии Геннадий Сергеевич показаний не давал, и это воспринималось таким образом, что ему, собственно, и нечего сказать в свое оправдание. Время уже наступило почти перестроечное (январь 1987 года) и потому суд был открытым не только формально, как это объявляется и всегда, но и фактически открытым. Публики было - не протолкаться, а подсудимому дали возможность защищать себя самому. (продолжение -- ниже) |
Обвинение в хищении книг Геннадий Сергеевич разбил в пух
и прах, запросив документы из библиотечного архива, где указывалось, что все изъятые при обыске библиотечные книги - списанонная в установленном порядке литература и все это приобретено им по остаточной стоимости в соответствии с действующими правилами. А на вопрос обвинения, почему же эти списанные книги в таком хорошем состоянии (почти как новые), Геннадий Сергеевич заявил, что он не может нести ответственность за то, что "всю вашу литературу почти я один и читаю". Когда же обвинение перешло к "хранению антисоветской литературы", подсудимый устроил форменный скандал. Он заявил, что изъятые у него "два тома, переплетенные в красную материю", никак не могут быть произведением "Архипелаг ГУЛАГ". Дело в том, что по всей партийной и советской прессе, по выступлениям наших уважаемых граждан, представителей культуры, литературы, науки и пр. (тут же шел список этих граждан), он знает, что "Архипелаг ГУЛАГ" - насквозь лживая книга. Вместе с тем, правдивость всех фактов, изложенных в книгах, изъятых у него при обыске ("два тома, переплетенные в красную материю"), он может доказать тут же, ссылаясь при этом только на ту самую партийную литературу из библиотеки, которая тоже была у него изъята при обыске. Ладно бы он только заявил это, он и вправду начал в качестве примера доказывать истинность сведений "Архипелага" в главе о первых политических процессах советской власти (надо сказать, что память у Геннадия Сергеевича была феноменальная). Всякие попытки суда прервать его речь как не относяшуюся к делу, он парировал как покушение суда на основу основ правосудия - на защиту . Он ведь выступал в качестве своего адвоката. Далее он указал судьям, что на их плечах лежит колоссальная ответственность, так как им надо определить, кто именно врет: вся партийная и советская пресса вместе с перечисленными ранее уважаемыми гражданами или гражданин обвинитель, называющий изъятые книги произведением "Архипелаг ГУЛАГ". "Однако, если суд примет решение в пользу обвинителя, - изгалялся далее Геннадий Сергеевич, - то из того факта, что врет вся партийная литература, логично следует, что врет и обвинитель, то есть если изъятые книги и признают "Архипелаглм ГУЛАГ", одновременно докажут их правдивость, а значит, и установят, что в их хранении отсутствует "состав преступления". В общем - суд был славный к полному удовольствию собравшихся. Геннадий Сергеевич получил-таки два года "химии", но скоро был отпущен по юбилейной амнистии как награжденный орденами (для меня было довольно неожиданно узнать, что он за время своей милицейской службы имел, оказывается, боевые награды - сам он ими никогда не бренчал). И вообще, все, что происходило с "Архипелагом", странным образом нарушало типичную советскую картину отношения граждан к самиздату (здесь я называю словом "самиздат" не только произведения самодельного производства, но и любую запрещенную в официальном распространении литературу). Конечно же, граждане, у которых находили "Архипелаг" или уличали в причастности к его хранению, распространению или тиражированию, вели себя по-разному (гордились этой причастностью... раскаивались... - было все). Однако добровольной (истинно добровольной) выдачи книги чекистам или искреннего порыва настучать о том, что такой-то негодяй дал эту книгу, - всего этого почти не было. Конечно, я говорю только на основании собственного опыта, так что если говорить строго, то следует сказать, что подобных проявлений поголовной бдительности с "Архипелагом" было на порядок меньше, чем с другими книгами. |
В качестве иллюстрации этого утверждения я могу привести
следующие факты. Шесть лет до 1982-го по Витебску (а описанные ранее события происходили именно там) гуляли те самые мои два тома "Архипелага" (с заходами и в Витебскую область). Мне точно известно, что за это время их прочли пять директоров крупнейших заводов всесоюзного значения, четверо парторгов с этих же предприятий, главный редактор одной из областных газет (и почти вся редакция), четверо деканов областных ВУЗов, все члены Госкомиссии, приехавшие из Минска принимать государственные экзамены в пединституте то ли в80-м, то ли в 81-м году (а, может, это было и в 79-м?); десяток директоров средних школ; еще больше - преподавателей истории в школах и ВУЗах, два директора режимных предприятий и один(!) начальник особого отдела режимного предприятия, пять младших офицеров и два подполковника знаменитой витебской десантной дивизии... А просто своих земляков - врачей, студентов, программистов, инженеров - мне и не счесть. И "Архипелаг" всегда возвращался ко мне, и ни один из читателей не донес. В моем деле нет ни одного свидетеля с показаниями о распространении "Архипелага". Можно бы отмахнуться от этого, как от случайного совпадения. Однако я предлагаю считать это не случайностью, а свойством самой книги. Есть в "Архипелаге" весьма значительная составляющая. Это - тема нашей общей вины. Тема непереносимая, требующая от читателя осознания и очищения. И, казалось бы, далее - либо с негодованием отшвырнуть весь этот, обрушенный на тебя груз соучастия (вместе с самой книгой), либо твоя жизнь непременно должна измениться, и ты должен будешь найти путь, избавляющий тебя от соучастия в преступлениях родины. (Смею предположить, что почти все многочисленные обличители "Архипелага" негодовали более по принуждению, и это хорошо видно в извивах их "негодований". Ну разве что такие списочные обличители, как Сергей Михалков, были предельно искренни, но им для этого и читать не надо.) И вроде бы получается, что "Архипелаг" должен был стать книгой, непримиримо разделяющей своих соотечественников. Абсолютнное большинство - это те, для которых всякая вина всегда вне их. Этим - только негодовать и отвергать любые намеки автора на общую нашу вину и, лучше всего, отвергать вместе со всей книгой. Малая часть - осознавшие тяжкий груз общей вины, получившие толчок, за которым, как минимум, раскаяние и поиски такого своего места в стране, где тебя уже не повяжут соучастием в преступных свершениях отечества (ведь после того, как и сам автор на пределе искренности включил в ту же книгу страницы о собственной своей вине, о своих ошибках и о своем раскаянии, другого пути у читателя нет). Однако книга не разделила читателей по этому признаку. В жизни тех, кто по мере сил участвовал в превращении "развитого социализма" в недоразвитый коммунизм, не было ярого негодования "Архипелагом", а в жизни тех, кто обрел опору в нравственном противостоянии окружающим их лжи и насилию (мне не нравятся распространенные термины "диссидент", "правозащитник" и пр.), не слышно было темы покаяния. И причина совсем не в том, что тема общей вины невнятно звучит в "Архипелаге" или была не замечена читателем. Как и в эссе "Жить не по лжи", Солженицын в своем "Архипелаге" не только указал путь очищения - он предоставил читателю возможность остановиться на этом пути чуть ли не в самом начале движения, и, даже - никак не меняя свою жизнь, опять получить от автора что-то вроде индульгенции (очиститься без покаяния). "А если долго еще не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и передача этой книги будет большой опасностью - так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться - от т е х, от погибших" ("Архипелаг ГУЛАГ", вступление). Автор благодарит нас только за чтение! Благодорит от имени погибших! Он уже прощает нам нашу вину! Мы можем говорить о виновных "они". Мы можем уже вместе с автором пережить его собственную вину (помните, он же пишет, как, например, его вербовали), мы можем даже ему посочувствовать и его простить (или - не простить). И редко у кого не проснется в ответ хоть минимальная благодарность. Потому и не взбудоражить было страну оголтелым негодованием в адрес "Архипелага". И редко у кого из вперед прощенных возникнет потребность ответить на призыв автора к покаянию. Почти все читатели, лукаво извернувшись, умостились в уютной лазейке. В общем, в то время автор дал своим современникам спасительную возможность без каких-либо перенапряжений нашей пластичной совести совмещать некоторую любовь к себе (всемирно известному писателю Солженицыну) с привычным и удобным каждому образом жизни. Конечно же, степень этой любви (вплоть до недолюбливания) зависела именно от привычного образа жизни, но все-таки возможность была. Тем более, что потом долгие годы автора рядом не было. Можно было его читать и любить. Можно было - не читать и любить. Можно было пофыркивать и - отдавать должное. Наше отношение к Солженицыну не навязывало нам каким-то жестким образом определенный выбор в нашей повседневной жизни. Великий соотечественник был вроде бы довольно-таки снисходителен к нашим трудным обстоятельствам (ему-то там хорошо!), и мы в ответ уважали и ценили его и его мировую славу (точнее, уважали - за его мировую славу). А потом нам начали наваливать всю подноготную советской эпохи, и мы все сразу узнали и поняли. Оказывается, Солженицын был прав. Даже если мы его сами и не прочли, то нам про это рассказали. А читать нам уже стало некогда. Еле успевали мы почитывать и тут же определять правых и виноватых, определяясь при этом, против кого объединять свою воспалившуюся гражданственность. |
Ах, как мы его ждали! Мы ведь уже все поняли, и сейчас он
должен вернуться и немедленно подтвердить нашу правоту по поводу тех гадов, которые мешают нашей светлой жизни. А если он ошибочно подтвердит правоту тех гадов, которые... и т.д., - мы растолкуем ему ошибочность его позиции и даже будем достаточно снисходительны к его заблуждениям, понимая, что там - вдали от родины - он не мог во всем разобраться... Ну почему же он не едет?! - А вы читали про "обустроить Россию"? - Не все... Там очень многословно, да и язык - все время спотыкаешься на непривычнызх словах... Но я знаю, в чем там ошибки... - Я с вами абсолютно согласен. Это же додуматься - "подбрюшье России"! Ему из Америки не понять, а нам главное - сохранить великую страну... - А я с вами обоими несогласен. И с Солженицыным - тоже. И не надо эту муть читать. Я не читал и не советую. Что он нам вкручивает про государственные интересы? Наелись! Главное - свобода. Всем нациям - свобода. Хотят отдельно - всех на волю... Он опять оказался прав, но чтобы это осознать, надо, как минимум, прочесть его публицистику и вспомнить, что мы нагородили в своей отчизне. Однако ни того, ни другого мы не в состоянии сделать добросовестно. Да и некогда. У нас каждый день - борьба с очередным злом, и скорее бы он вернулся подтвердить нашу правоту... Солженицын вернулся. Словом "разочарование" можно лишь очень приблизительно передать отношение современников. Ведь здесь его так ждали. Здесь были готовы под его знаменами хоть и на баррикады! Ну кому нужны эти его слова про то, что мы должны делать долгие годы?.. Ведь каждый из нас - ничего никому не должен. Ведь нас так долго обманывали, и сейчас обманывают все, кому не лень, что нам уже - все должны. И как в пустоту говорил Александр Солженицын с трибуны Думы. Народные представители явно скучали, некоторые дремали, другие что-то почитывали, и - мысленно - все отсутствовали... Спасибо, хоть не прерывали и не захлопывали, как Сахарова, когда он говорил свои слова прошлым нашим народным представителям (а многие ведь перекочевали из того зала в этот). Сейчас, когда нам крутят те кадры, зал не показывают. Демонстрируют только отказывающийся понимать академика президиум. Так же будет когда-нибудь и с хроникой выступления Александра Солженицына в Думе. И надо будет потрудиться, чтобы вспомнить, что президиум того заседания - плоть от плоти всего зала, всех народных представителей. А сами они, как бы мы их не высмеивали, - плоть от плоти народа... наши с вами представители... И телевизионные беседы Солженицына соотечественники слушали, в основном, так же - отсутствуя. Вот сейчас вроде говорит про понятное: власть виновна в том-то и том-то.., а потом опять - неизвесно про что... Если власть виновна - призови сместить ее! скажи, кто хороший? кому доверить?.. Ведь мы уже и сами все понимаем и знаем, а от него только и требуется - подтвердить это наше знание, а он опять не соответствует нашим желаниям... И не было возмущения современников, когда их лишили возможности регулярно слышать мнение своего великого соотечественника. А вот этот разговор был у меня несколько дней назад. - Он призывал голосовать против всех - это же глупость! Это - бесполезно. Не может ведь больше половины избирателей проголосовать против всех!.. - Так этого и не надо. По закону, чтобы избрать Президента... - Надо больше половины голосов. И чтобы никого не избрать - больше половины. - Нет. Если, к примеру, всего избирателей 10, за одного кандидата - 5, за другого - 4, а против всех - 1, то никто не побеждает и будут следующие выборы. Это по закону. - Чушь... - Вы закон читали? - Я - знаю... И кроме того, Солженицын обязан был высказать свое мнение по поводу войны в Чечне, и по всей этой проблематике. - Он и высказал. Вы "Россию в обвале" прочли? - Всю не читал, но он обязан был публично занять позицию... И все это говорил заместитель редактора очень авторитетного журала, в сталинском прошлом сиделец и человек, уважающий писателя Солженицына. Правда сегодня читать писателя Солженицына ему некогда. Много работы, и - вообще... Надо сказать, что с чтением Солженицына происходят удивительные вещи (а, может, вообще - с чтением). Я к сегодняшнему дню прочел 8 томов из 10-томного "Красного колеса" (только недавно купил, а остальные произведения Александра Исаевича я читал сразу по мере их выхода) и точно знаю, что все домыслы о том, что "Красное колесо" - не художественная литература, что весь текст перенасыщен словами собственного авторского языка, делающими чтение невозможным.., все это - именно домыслы.. При этом я знаю, что из очень большого круга моих знакомых и приятелей только один человек прочел "Красное колесо". Все рассуждения о том, что эпопея Солженицына - не литература, я слыхал от людей, которые знают про это не из собственного чтения, а откуда-то еще (кто-то рассказал...). |
Но ведь, в конце концов, можно бы и без этого (без чтения)
почтить великого соотечественника должным уважением и любовью! Любит ведь весь наш народ Пушкина, почти и не читая его, а так - что-то помня из школы, но помня и главное, что Пушкин - наша гордость и слава (про это нам тоже рассказывали). Оказывается, что с Солженицыным так не получается. По крайней мере, у его современников. Ведь выразить искреннее уважение к Солженицыну - это значит признать достойным не только его труд, но и его жизнь. И как же тогда в свете этой жизни будет выглядеть наша собственная? Что нам останется от так необходимого нам самоуважения? Мы ведь, в сущности, вполне хорошие люди. Мы тоже хотим пользы Отечеству и согласны работать для этой пользы. Но хорошо бы - получать и соответствующую награду за нашу неустанную работу. Чтобы - отдохнуть, насладиться многообразными жизненными радостями... в общем, для того и работать, чтобы была возможность пожить!.. Но так, как он - так же нельзя: только работа, каждый день - работа (с шести утра), и завершение работы - всего лишь более плодотворная площадка для следующей работы, а все награды, почести, заслуги - только неизбежная суета, которую требуется свести к минимуму, потму что все это - мешает работе... "Останется только то, что написано" и, значит, только это и есть основное содержание жизни?! А все остальное? А - отдых? А - лучи славы? А - просто расслабиться? А нормальное стремление жизни к боле мягкой и более вкусной?.. Все краски и запахи!.. Все, что имеют заслуженные люди за свой неустанный труд, - зимние курорты и прием в Кремле! роскошный автомобиль и поклонницы! - как же, к этому и не стремиться?.. Об этом недостойно и мечтать? Только - работа?! И если все, с чем обращался ранее к своим современникам Солженицын - вспомните "Жить не по лжи" и "Архипелаг", - если все это можно было полагать некими тестами - тестами на порядочность, на действительную любовь к отечеству и на действительную гражданственность, то в этих тестах, как мы видели, были и вполне доступные нам позиции. Мы могли считать, что, по минимуму, те тесты мы выдержали, и при этом - без особого ущерба собственным привычкам и суетным страстям. А вот своей жизнью рядом с нами - в одном времени и в одном отечестве - Солженицын вроде бы от нас ничего и не требует. Но эта его жизнь рядом - самый требовательный тест всем его современникам. И мы этот тест выдержать не в силах. Хотя, согласитесь, было бы хорошо. Трудиться без устали и без суетливых мечтаний о признании, трудиться, понимая, что только это тебе и дано - создать своими усилиями маленький кристаллик нормального мира вокруг себя (на локоток только или на несколько метров - это как получится), а все надежды - лишь на то, что из таких единичных кристалликов возродится твоя страна. Как это славно! Но стоит подумать только о звонкой запотевшей рюмке... о бутерброде (например, с икрой), о возможном уже сейчас веселом вечере среди красивых (а лучше и знаменитых) людей, о столь необходимом отдыхе и празднике (но ведь заслуженном, за вчерашние труды!.. ну, или за сегодняшние добрые помыслы!), и - сразу же хочется все славные картинки о работе и гражданственности отодвинуть хотя бы на завтра. Ну, конечно же, мы живем - в основном - правильно, а если вокруг много неправильного, то мы всегда знаем, кто именно в этом виноват. И чтобы не мучить себя всякими разрушительными для необходимого самоуважения сомнениями, лучше считать, что неправильное что-то не у нас, а в жизни Солженицына. Например, гордыня... или - оторвался от народа: не слышит нашей беды и не занимает должную позицию... да мало ли? Короче, мы точно всего не знаем, но... ведет он себя совсем не так, как надо. Пишет-пишет... ему хорошо, а у нас вот такая жизнь, что даже читать некогда... В общем, мы его так ждали, а он... Нет, не очень убедительно. А ведь какие-то наши выплески (статьи в газетах, мельтешение на экране телевизора, всякие другие способы нашего самоутверждения) могут случайно привлечь его внимание! Представьте на минутку: увидит и - с отвращением отвернется. И вот так нам жить под возможным вниманием его зрачка?! Да куда легче жить под неусыпным наблюдением гебни (при всех идеологических несогласиях, представления об удобной и комфортной жизни у нас с ними куда ближе, чем с Солженицыным). Тут вот современникам точненько угодил бойкий критик, все враз и разъяснивший. Оказывается, такая раздражающая непохожесть Александра Исаевича на нас, нормальных людей, такая его отрешенность от милых нам празднеств и отдохновений, оголтелость его работы и болезненная обостренность чувства гражданского долга - все это от демонов, мучающих Солженицына. Это же - находка! Конечно - демоны! (Не зря сама эта находка удостоена премии в номинации "Луч света".) Именно - демоны! Вот мы - нормальные люди, и все у нас понятно, обычно и логично, все - по-человечески, и если, кроме глистов и вшей, нас что-то и мучает, то - только ясные человеческие желания - чтоб мягче... вкуснее... и чтоб нас любили (да как же нас не любить!). И все мы добрые граждане и потому хотим, чтобы и остальным всем было и мягче, и вкуснее (только не за счет нас). Ну а все иные резоны - либо ложь, либо от демонов. Солженицын сумел доказать нам, что лжи в нем нет, значит - кроме объяснения демонами - других объяснений его непохожестям и не найти. . . . Как повезло всем нашим бывшим согражданам, которые могут чтить (а многие - и любить) Солженицына в далеке своих независимых государств... |
Справка.
Наум Ним (псевдоним)-- политзэк последнего набора, трепал стекловату на тюменской зоне вместе с урками, когда получил амнистию от Генсека Горбачёва, в связи с "очеловечиванием" советской системы. Еврей чистокровный. В США, Германию, Израиль не съехал, хотя и мог, хотя и был приглашаем. |
Для тех, кто прочитал эссе Наума Нима
и кого заинтересовал автор и его дела, даю наводку на его журнал "Индекс". |
Для тех, кому АИС -- "власовец",
а самим раскрыть "Архипелаг" лень. Еще когда мы разрезали Восточную Пруссию, видел я понурые колонны возвращающихся пленных -- единственные при горе, когда радовались вокруг все, -- и уже тогда их безрадостность ошеломляла меня, хоть я еще не разумел её причины. Я соскакивал, подходил к этим добровольным колоннам (зачем колоннам? почему они строились? ведь их никто не заставлял, военнопленные всех наций возвращались разбродом! А наши хотели прийти как можно более покорными...) Там на мне были капитанские погоны, и под погонами да и при дороге было не узнать: почему ж они так все невеселы? Но вот судьба завернула и меня вослед этим пленникам, я уже шел с ними из армейской контрразведки во фронтовую, во фронтовой послушал их первые, еще неясные мне, рассказы, потом развернул мне это все Юрий Е., а теперь, под куполами кирпично-красного Бутырского замка, я ощутил, что эта история нескольких миллионов русских пленных пришивает меня навсегда, как булавка таракана. Моя собственная история попадания в тюрьму показалась мне ничтожной, я забыл печалиться о сорванных погонах. Там, где были мои ровесники, там только случайно не был я. Я понял, что долг мой -- подставить плечо к уголку их общей тяжести -- и нести до последних, пока не задавит. Я так ощутил теперь, будто вместе с этими ребятами и я попал в плен на Соловьевской переправе, в Харьковском мешке, в Керченских каменоломнях; и, руки назад, нес свою советскую гордость за проволоку концлагеря; и на морозе часами выстаивал за черпаком остывшей кавы (кофейного эрзаца) и оставался трупом на земле, не доходя котла; в офлаге N 68 (Сувалки) рыл руками и крышкою от котелка яму колоколоподобную (кверху уже), чтоб зиму не на открытом плацу зимовать; и озверевший пленный подползал ко мне умирающему грызть мое еще не остывшее мясо под локтем; и с каждым новым днем обостренного голодного сознания, в тифозном бараке и у проволоки соседнего лагеря англичан -- ясная мысль проникала в мой умирающий мозг: что Советская Россия отказалась от своих издыхающих детей. "России гордые сыны", они нужны были ей, пока ложились под танки, пока еще можно было поднять их в атаку. А взяться кормить их в плену? Лишние едоки. И лишние свидетели позорных поражений. |
Для тех, кому АИС -- "власовец",
а самим раскрыть "Архипелаг" лень. (продолжение) ... А то приезжали вербовщики совсем иного характера -- русские, обычно из недавних красных политруков, белогвардейцы на эту работу не шли. Вербовщики созывали в лагере митинг, бранили советскую власть и звали записываться в шпионские школы или во власовские части. Тому, кто не голодал, как наши военнопленные, не обгладывал летучих мышей, залетавших в лагерь, не вываривал старые подметки, тому вряд ли понять, какую необоримую вещественную силу приобретает всякий зов, всякий аргумент, если позади него, за воротами лагеря, дымится походная кухня и каждого согласившегося тут же кормят кашею от пуза -- хотя бы один раз! хотя бы в жизни еще один только раз! Но сверх дымящейся каши в призывах вербовщика был призрак свободы и настоящей жизни -- куда бы ни звал он! В батальоны Власова. В казачьи полки Краснова. В трудовые батальоны -- бетонировать будущий Атлантический вал. В норвежские фиорды. В ливийские пески. В "hiwi" -- Нilfswilligе -- добровольных помощников немецкого вермахта (12 hiwi было в каждой немецкой роте). Наконец, еще -- в деревенских полицаев, гоняться и ловить партизан (от которых Родина тоже откажется от многих). Куда б ни звал он, куда угодно -- только б тут не подыхать, как забытая скотина. С человека, которого мы довели до того, что он грызет летучих мышей -- м═ы ═с═а═м═и сняли всякий его долг не то что перед родиной, но -- перед человечеством! |
Из весёленького
от Михаила Ардова. Ахматова провожает гостя. Я тоже выхожу в переднюю, снимаю с вешалки пальто и хочу подать его. Гость с испугом отстраняется от меня. - Нет!.. Нет!.. Что вы! Это - А. И. Солженицын. Он берет у меня из рук пальто и надевает его сам. - Я очень боюсь переменить психологию, - объясняет он Ахматовой и мне. - По этой причине я стараюсь не ездить на такси... Я не могу видеть, как перед автомобилем разбегаются маленькие люди... - Случилось, - говорю я, - что молодой, но уже очень известный поэт Твардовский был в гостях у академика - кораблестроителя Крылова. На прощание хозяин попытался подать ему пальто. Твардовский остановил его жестом. На это Крылов сказал: "Поверьте, молодой человек, у меня нет причин заискивать перед вами..." - Да, да, - подтверждает Солженицын, - это было... Мне об этом сам Твардовский рассказывал... |
Боевые награды капитана артиллерии
Александра Исаевича Солженицына. Орден Отечественной войны http://upload.wikimedia.org/wikipedi...PatWar_2nd.jpg Основания награждения: проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск. ________________________________________________ Орден Красной Звезды http://upload.wikimedia.org/wikipedi...-ZV0053764.jpg Основания награждения: за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности. |
http://www.solzhenitsyn.ru/upload/ib...0f/jzl-028.jpg
Офицеры разведдивизиона Cидит первый слева — капитан Cолженицын. |
http://www.solzhenitsyn.ru/upload/ib...fb/jzl-026.jpg
Комбат А. Солженицын и командир артиллерийского разведдивизиона Е. Пшеченко Февраль 1943 года. |
http://www.solzhenitsyn.ru/upload/ib...03/jzl-024.jpg
Курсант Ленинградского артиллерийского училища (3-го ЛАУ) Кострома, июль 1942 года. |
http://www.solzhenitsyn.ru/upload/ib...5d/jzl-027.jpg
Николай Виткевич и Александр Солженицын. Село Тюрино под Новосилем, май 1943 года. |
Александр Солженицын :: Адлиг Швенкиттен
("...повесть "Адлиг Швенкиттен", о боях в Восточной Пруссии в январе 1945-го - настоящий шедевр позднего Солженицына, где его литературное мастерство достигло предельной концентрации, - пишет поэт Юрий Кублановский. -С первых же страниц и абзацев повествования проникает в читательскую душу чувство вещей, точней, зловещей тревоги - и так по нарастающей - вплоть до реквиемного финала".) Читает автор!(ссылка на mp3) (начало) ======================== Памяти майоров Павла Афанасьевича Боева и Владимира Кондратьевича Балуева. 1 В ночь с 25 на 26 января в штабе пушечной бригады стало известно из штаба артиллерии армии, что наш передовой танковый корпус вырвался к балтийскому берегу! И значит: Восточная Пруссия отрезана от Германии! Отрезана - пока только этим дальним тонким клином, за которым еще не потянулся шлейф войск всех родов. Но - и прошли ж те времена, когда мы отступали. Отрезана Пруссия! Окружена! Это уже считайте, товарищи политработники, и окончательная победа. Отразить в боевых листках. Теперь и до Берлина - рукой подать, если и не нам туда заворачивать. Уже пять дней нашего движения по горящей Пруссии - не было недостатка в праздниках. Как одиннадцать дней назад мы прорвали от наревского расширенного плацдарма - то пяток дней по Польше еще бои были упорные, - а от прусской границы будто сдернули какой-то чудо-занавес: немецкие части отваливались по сторонам - а нам открывалась цельная, изобильная страна, так и плывущая в наши руки. Столпленные каменные дома с крутыми высокими крышами; спанье на мягком, а то и под пуховиками; в погребах - продуктовые запасы с диковинами закусок и сластей; еще ж и даровая выпивка, кто найдет. И двигались по Пруссии в каком-то полухмельном оживлении, как бы с потерей точности в движениях и мыслях. Ну, после стольких-то лет военных жертв и лишений - когда-то же чуть-чуть и распуститься. Это чувство заслуженной льготы охватывало всех, и до высоких командиров. А бойцов - того сильней. И - находили. И - пили. И еще добавили по случаю окружения Пруссии. А к утру 26го семеро бригадских шоферов - кто с тягачей, кто с ЗИСов - скончались в корчах от метилового спирта. И несколько из расчетов. И несколько - схватились за глаза. Так начался в бригаде этот день. Слепнущих повезли в госпиталь. А капитан Топлев, с мальчишеским полноватым лицом, едва произведенный из старшего лейтенанта, - постучал в комнату, где спал командир 2го дивизиона майор Боев, - доложить о событии. Боев всегда спал крепко, но просыпался чутко. В такой постели дивной, да с пышным пуховиком, разрешил он себе снять на эту ночь, теперь натягивал, гимнастерку, а на ковре стоял в шерстяных носках. На гимнастерке его было орденов-орденов, удивишься: два Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны да две Красных Звезды (еще и с Хасана было, еще и с финской, а было и третье Красное Знамя, самое последнее, но при ранении оно утерялось или кто-то украл). И так, грудь в металле, он и носил их, не заменяя колодками: приятная эта тяжесть - одна и радость солдату. Топлев, всего месяц как из начальника разведки дивизиона - начальник штаба, уставно, чинно откозырял, доложил. Личико его было тревожно, голос еще тепло-ребяческий. Из 2го дивизиона тоже на смерть отравились: Подключников и Лепетушин. Майор был роста среднего, а голова удлиненная, и при аккуратной короткой стрижке лицо выглядело как вытянутый прямоугольник, с углами на теменах и на челюсти. А брови не вовсе вровень и нос как чуть-чуть бы свернут к боковой глубокой морщине - как будто неуходящее постоянное напряжение. С этим напряжением и выслушал. И сказал не сразу, горько: - Э-э-эх, глупенье... Стоило уцелеть под столькими снарядами, бомбежками, на стольких переправах и плацдармах - чтоб из бутыли захлебнуться в Германии. Хоронить - да где ж? Сами себе место и выбрали. Пройдя Алленштейн, бригада на всяк случай развернулась на боевых позициях и здесь - хотя стрелять с них не предвиделось, просто для порядка. - Не на немецком же кладбище. Около огневой и похороним. Лепетушин. Он и был - такой. Говорлив и услужливо готовен, безответен. Но Подключников? - высокий, пригорбленный, серьезный мужик. А польстился. 2 Земля мерзлая и каменистая, глубоко не укопаешь. Гробы сколотил быстро, ловко свой плотник мариец Сортов - из здешних заготовленных, отфугованных досок. Знамя поставить? Никаких знамен никто никогда не видел, кроме парада бригады, когда ее награждали. Всегда хранилось знамя где-то в хозчасти, в 3м эшелоне, чтоб им не рисковать. Подключников был из 5й батареи, Лепетушин из 6й. А речь произносить вылез парторг Губайдулин - всего дивизиона посмешище. Сегодня с утра он уже был пьян, и заплетно выговаривал заветные фразы - о священной Родине, о логове зверя, куда мы теперь вступили, и - отомстим за них. Командир огневого взвода 6й батареи, совсем еще юный, но крепкий телом лейтенант Гусев слушал со стыдом и раздражением. Этот парторг - по легкоте проходимости политических чинов? или, кажется, по непомерному расположению комиссара бригады? - на глазах у всех за полтора года возвысился от младшего сержанта до старшего лейтенанта, и теперь всех поучал. А Гусеву было всего 18 лет, но уже год лейтенантом на фронте, самый молодой офицер бригады. Он так рвался на фронт, что отец-генерал подсадил его, еще несовершеннолетнего, на краткосрочные курсы младших лейтенантов. Кому как выпадает. А рядом стоял Ваня Останин, из дивизионного взвода управления. Большой умница и сам хорошо вел орудийную стрельбу за офицера. Но в сталинградские дни 42го года - из их училища каждого третьего курсанта выдернули недоученного, на фронт. Отбирал отдел кадров, на деле Останина стояла царапинка о принадлежности к семье упорного единоличника. И теперь этот 22-летний, по сути, офицер носил погоны старшего сержанта. Кончил парторг - Гусева вынесло к могилам, на два шага вперед. Хотелось - не так, хотелось - эх! А речь - не высекалась. И только спросил сжатым горлом: - Зачем же вы так, ребята? Зачем? Закрыли крышки. Застучали. Опускали на веревках. Забросали чужой землей. Вспомнил Гусев, как под Речицей бомбанул их Юнкерс на пути. И никого не ранил, и мало повредил, только в хозмашине осколком разнес трехлитровую бутыль с водкой. Уж как жалели ребята! - чуть не хуже ранения. Не балуют советских солдат выпивкой. В холмики встучали надгробные столбики, пока некрашенные. И кто за ними надсмотрит? В Польше немецкие военные надгробья с Пятнадцатого года стояли. Ищуков, начальник связи, - на Нареве выворачивал их, валял, - мстил. И никто ему ничего не сказал: рядом смершевец стоял, Ларин. Гусев проходил мимо затихшей солдатской кучки и слышал, как из его взвода, из того же 3го расчета, что и Лепетушин был, подвижный маленький Юрш поделился жалобно: - А - и как удержаться, ребята? Как удержаться? в том и сладкая косточка: думаешь - пройдет. Но - промахнуло серым крылом по лицам. Охмурились. Командир расчета Николаев, тоже мариец, очень неодобрительно смотрел суженными глазами. Он водки вообще не принимал. А жизнь, а дело - течет, требует. Капитан Топлев пошел в штаб бригады: узнать, как похоронки будем писать. Начальник штаба, худой, долговязый подполковник Вересовой, ответил с ходу: - Уже комиссар распорядился: "Пал смертью храбрых на защите Родины". Сам-то он голову ломал: кого теперь рассаживать за рули, когда поедем. |
3
Ошеломительно быстрый прорыв наших танков к Балтийскому морю менял всю картину Прусской операции - и тяжелая пушечная бригада никуда не могла поспеть и понадобиться сегодня-завтра. А комбриг уже не первый день хромал: нарыв у колена. И уговорил его бригадный врач: не откладывать, поехать сегодня в госпиталь, соперироваться. Комбриг и уехал, оставив Вересового за себя. Ни дальнего звука стрельбы ниоткуда. Ни авиации, нашей ли, немецкой. Как - кончилась война. День был не холодный, сильно облачный. Малосветлый. Пока - сворачивались со своих условных огневых позиций, и все три дивизиона подтягивались к штабу бригады. Тихо дотекало к сумеркам. Уже и внедрясь в Европу, счет мы вели по московскому времени. Оттого светало чуть не в девять утра, а темнело, вот, к шести. И вдруг пришла из штаба артиллерии армии шифрованная радиограмма: всеми тремя дивизионами немедленно начать движение на север, к городу Либштадту, а по мере прибытия туда - всем занять огневые позиции в 7-8 километрах восточнее его, с основным дирекционным углом 15-00. Все-таки сдернули! На ночь глядя. Да так всегда и бывает: когда меньше всего охота двигаться, а только бы - переночевать на уже занятом месте. Но поражало 15-00. Такого не было за всю войну: прямо на восток! Дожили. Привыкли от 40-00 до 50-00 - на запад, с вариациями. Нет, еще раньше разила начальника штаба потребность немедленно заменить перетравившихся шоферов. Запасных - почти не было. С каких рулей снимать и что оставить без движения? Больше всех пострадал 1й дивизион, и подполковник Вересовой запросил штаб артиллерии оставить его на месте, за счет него докомплектовать тягу 2го и 3го. Выхода и нет. Разрешили. Переломиться к ночному движению - трудны только самые первые минуты. А вот уже двадцать четыре крупнокалиберные пушки-гаубицы подцепляли тракторами - все нагло с фарами. За ними строились подсобные машины. Все вокруг рычало. "...километров восточнее" - это очень не все. Топографическая карта, километр в двух сантиметрах, вот передавала складки местности, да не все, конечно; шоссе и проселочные дороги, и какие обсажены, а какие нет; и извивы реки Пассарге, текущей с юга на север, и отдельные хутора, рассыпанные по местности, - да все ли хутора? а еще сколько там троп? А хутора - с жителями, без жителей? Подполковник наудачу прикинул: 2й дивизион вот тут, поюжней, 3й- вот тут, посеверней. Разметили примерными овалами. Майор Боев стоял с распахнутой планшеткой и хмуро рассматривал карту. Сколько сотен раз за военную службу приходилось вот это ему - получать задачу. И нередко бывало, что расположение противника при этом не сообщалось, оставалось неизвестным: начнется боевая работа - тогда само собой и прощупается. А сейчас - еще издали, за 25 километров от того Либштадта, - как угадать, где пустота, а где оборванный немецкий фланг? А главное: где наша пехота? и той ли дивизии, какая сюда назначена? Ведь наверняка отстали, не за танками им угнаться, растянулись - и насколько? И где их искать? Но привычно твердый голос Вересового не выдавал сомнений. Стрелковая дивизия - да, наверно, та самая, что и была. Растянулась, конечно. Да немцы - в ошеломлении, наверно стягиваться будут к Кенигсбергу. Штаб бригады - будет в Либштадте или около. Где-нибудь там и штаб дивизии. А в чем был смысл - занять огневые позиции до полуночи? В темноте топопривязки не сделаешь, только по местным ориентирам, приблизительно, - такая приблизительная будет и стрельба. Да при орудиях - сильно неполный боекомплект. Тылы отстали. Что делать, подвезут. Боев посмотрел на Вересового исподлобья. С начальством и близким не договоришься. Как и тому - со своим. Начальство - всегда право. По зимней дороге и с малым гололедом еще надо дотянуться невредимо до этого Либштадта, часа бы за три. За тучами - луна уже должна быть. Хоть не в полной тьме. Слитно рычали тракторы. Вся колонна, светя десятками фар, вытягивалась из деревни на шоссе. Выбирались едва не полчаса. Потом гул отдалился. 4 А какой подъем от Победы! И от тишины, глухоты, - все это тоже знаки Победы. И от этого - всюду брошенного, еще теплого немецкого богатства. Собирай, готовь посылки домой, солдат пять килограмм, офицер - десять, генерал - пуд. Как отобрать лучшее, не ошибиться? А уж сам тут - ешь, пей, не хочу. Каждый дом квартировки - как чудо. Каждая ночевка - как праздник. Комиссар бригады подполковник Выжлевский занял самый видный дом в деревне. В нижнем этаже - даже не комната, а большой зал, освещенный дюжиной электрических ламп с потолка, со стен. И шел же откуда-то ток, не прерывался, тоже чудо. Здешняя радиола (заберем ее) подавала, в среднем звуке, танцевальную музыку. Когда Вересовой вошел доложиться, Выжлевский - крупноплечий, крупноголовый, с отставленными ушами, сидел, утонувши в мягком диване у овального столика, с лицом блаженным, розовым. (Этой голове не военная фуражка бы шла, а широкополая шляпа.) На том же диване, близ него, сидел бригадный смершевец капитан Тарасов - всегда схватчивый, доглядчивый, легкоподвижный. Очень решительное лицо. Сбоку распахнута была в обе половинки дверь в столовую - и там сервировался ужин, мелькнули две-три женские фигуры, одна в ярко-синем платьи, наверно немка. А была и политотдельская, переоделась из военного, ведь гардеробным добром изувешаны прусские шкафы. Тянуло запахом горячей пищи. Вересовой с чем пришел? В отсутствие комбрига он был формально старший, и мог бы сам принять любое дальше решение. Но, прослужив в армии уже полтора десятка лет, хорошо усвоил не решать без политруков, всегда надо знать их волю и не ссориться. Так вот насчет перевозки штаба? - не сейчас бы и ехать? Но явно: это было никак невозможно! Ждал ужин и другие приятности. Такой жертвы нельзя требовать от живых людей. Комиссар слушал музыку, полузакрыв глаза. Доброжелательно ответил: - Ну, Костя, куда сейчас ехать? Среди ночи - что там делать? где остановимся? Завтра встанем пораньше - и поедем. И оперуполномоченный, всегда уверенный в каждом своем жесте, четко кивнул. Вересовой не возразил, не поддакнул. Стоял палкой. Тогда Выжлевский в удобрение: - Да приходи к нам ужинать. Вот, минут через двадцать. Вересовой стоял - думал. Оно и самому-то ехать не хотелось: эти прусские ночлеги сильно размягчают. И еще соображение: 1й дивизион стоит разукомплектованный, не бросить же его. Но и взгреть могут. Тарасов нашелся, посоветовал: - А вы - снимите связь и с армией, и с дивизионами. И вот, для всех мы будем - в пути, в переезде. Ну, если смершевец советует - так не он же и стукнет? А ехать на ночь - и правда, выше сил. |
5
Весь вечер сыпал снежок, притрушивая подледеневшее шоссе. Ехали медленно не только от наледи, но чтоб и лошади не сильно отстали. В Либштадте простились, обнялись с комдивом 3го, он северней забирал. В пути глядя на карту при фонарике: выпадало Боеву переехать на восточный берег Пассарге, потом еще километра полтора по проселочной, и поставить огневые, наверно, за деревней Адлиг Швенкиттен, - так, чтобы вперед на восток оставалось до ближнего леса еще метров шестьсот прозора и не опасно стрелять под низким углом. Мост через Пассарге оказался железобетонный, целехонький, и проверять проходимость не надо. Левый западный берег крутой, с него уклонный съезд на мост. Тут - оставили маяка, для лошадиных саней. Никаких лошадей, ни телег, моторизованным частям по штату не полагалось, и начальство мыслило, что таковых, разумеется, нет. Но еще от орловского наступления и потом когда шли - все батареи нахватали себе бродячих, трофейных, бесхозных, а то и хозных лошадей и потянули на них подсобный тележный обоз. Во главе такого обоза ставишь грамотного сержанта - и он всегда свои батареи нагонит, найдет. Трактора Аллис-Уильмерс - конечно, отличные, но с ними одними и пропадешь. Потом, и особенно ближе к Германии, нахватывали вместо наших средних лошадок - да крепких немецких битюгов, лошадиных богатырей. Зимой меняли телеги на сани. Вот сегодня бы без саней - от огневых до наблюдательных, по снежной целине, сколько бы на себе ишачить? Снегопад поредел, а выпало, смотри, чуть не в полголени. На орудийных чехлах наросли снежные шапочки. Нигде - никого ни души. Мертво. И следов никаких. Вмеру посвечивая фарами, поехали по обсаженной, как аллейка, дороге. И тут никого. Вот - и Адлиг. Чужеродные постройки. Все дома темны, ни огонька. Послали поглядеть по домам. Дома деревни - пустые и все натопленные. Часов немного, как жители ушли. Значит и недалеко они. Ну, одни б молодки убежали в лес, - нет, все сплошь. По восточной окраине Адлига вполне уставлялись восемь пушек, однако, все ж, не двенадцать, да и бессмысленно бы так. Распорядился Боев комбату Касьянову ставить свою Шестую батарею - метров восемьсот поюжней и наискосок назад, у деревушки Кляйн Швенкиттен. Но и до чего ж - никого. В Либштадте не поискали, а от самого Либштадта никого живого не видели. Где ж пехота? Вообще из братьев-славян- ни души. И получалось непонятно: вот поставим здесь орудия - слишком далеко от немцев? Или, наоборот, зарвались? Может, они и в этом ближнем леске сидят. Пока - выдвинуть к тому леску охранение. Делать нечего. Трактора рычали. Шестая утягивалась по боковой дороге в Кляйн картой. Карта - всегда много говорит. Если в карту вглядываться, в самом и безнадежьи что-то можно увидеть, догадаться. Боев никого не торопил, все равно саней подождем. В беззвестье он, бывало, и попадал. Попадал - да на своей земле. Радист уже связался со штабом бригады. Ответ: скоро выезжаем. (Еще не выехали!) А новостей, распоряжений? Пока никаких. Вдруг - шаги в прихожей. Вошел, в офицерской ладной шинели, - командир звукобатареи, оперативно подчиненной Боеву. Давний приятель, еще из-под Орла, математик. И сразу же свою планшетку с картой к лампе развертывает. Думает он: вот, прямая проселочная на северо-восток к Дитрихсдорфу, еще два километра с лишком, там и центральная будет, туда и тяните связь. Смотрит Боев на карту. Топографическую читал он быстрей и точней, чем книгу. И: - Да, будем где-то рядом. Я - правей. Нитку дам. А топографы? - Одно отделенье со мной. Да какая ночью привязка? Наколют примерно. И к вам придут. Такая и стрельба будет. Приблизительная. Торопится, и поговорить некогда. Хлопнули дружеским пожатием: - Пока? Что-то не сказано осталось. И своих бы комбатов наставить, так и они заняты. И - лошадей пождать. И прилег Боев на диванчик: в сапогах на кровать - неудобно. А без сапог - не солдат. 6 Для кого война началась в 41м, а для Боева - еще с Хасана, в 38м. Потом и на финской. Так и потянулось сплошной войной вот уже седьмой год. Два раза перебывал на ранениях - так та ж война, а в родной край отпусков не бывает. В свою ишимскую степь с сотнями зеркальных озер и густостайной дичью, ни к сестре в Петропавловск вот уж одиннадцатый год путь так и не лег. Да когда в армию попал - Павел Боев только и жизнь увидел. Что было на воле? Южная Сибирь долго не поднималась от гражданской войны, от подавленного ишимского восстания. В Петропавловске, там и здесь, - заборы, палисадники еще разобраны, сожжены, а где целы - покривились. Стекла окон подзаткнуты тряпками, подзатянуты бумагой. Войлок дверной обивки где клоками висит, где торчит солома или мочало. С жильем - хуже всего, жил у замужней сестры Прасковьи. Да и с обувью не лучше: уж подшиваешь, подшиваешь подошвы - а пальцы наружу лезут. А с едой еще хуже: этого хлеба карточного здоровому мужику - ничто... И везде в очереди становятся: где - с пяти утра, а где набегают внезапной гурьбой, не спрашивая: а что будут давать? Раз люди становятся - значит, что-то узнали. И - нищих же сколько на улицах. А в армии - наворотят в обед борща мясного, хлеба вдосыть. Обмундирование где не новенькое, так целенькое. Бойцы армии - любимые сыны народа. Петлицы - малиновые пехотные, черные артиллерийские, голубые кавалерийские, и еще разные (красные - ГПУ). Четкий распорядок занятий, построений, приветствий, маршировок - и жизнь твоя осмыслена насквозь: жизнь - служба, и никто тут не лишний. Рвался в армию еще до призыва. Так - ни к чему, кроме армейского, не приладился, и не женился, - а позвала труба и на эту войну. В армии понял Павел, что он - отродный солдат, что родная часть ему - вот и дом. Что боевые порядки, стрельбы, свертывания, передвижки, смены карт, новые порядки - вот и жизнь. В 41м теряли стволы и тягу - но дальше такого не случалось, только если разворотит орудие прямым попаданием или на мине трактор подорвется. Война - как просто работа, без выходных, без отпусков, глаза - в стереотрубу. Дивизион - семья, офицеры - братья, солдаты - сынки, и каждый свое сокровище. Привык к постоянной передряге быта, переменчивости счастья, уже никакой поворот событий не мог ни удивить, ни напугать. Нацело - забыл бояться. И если можно было напроситься на лишнюю задачу или задачу поопаснее - всегда шел. И под самой жестокой бомбежкой и под густым обстрелом Боев не к смерти готовился, а только - как операцию заданную осмыслить и исполнить получше. Глаза открыл (и не спал). Топлев вошел. Лошади - притянули. Боев сбросил ноги на пол. Мальчик он еще, Топлев, хлипок для начальника штаба. Но и комбата ни одного отпустить не хотелось на штаб, взял с начальника разведки. Позови Боронца. Крепок, смышлен старшина дивизиона Боронец, и глаза же какие приемчивые. Уже сам догадался: из саней убирает лишнее - трофеи, барахло. Трое саней - под погрузку, на три наблюдательных - катушки с проводом, рации, стереотрубы, гранаты, чье и оружие, чьи и мешки, из взводов управления, и продукты. - После Либштадта - кого видел по дороге? Пехоту? Боронец только чмокнул, покачал большекруглой головой. - Ник-к-кого. Да где ж она? Совсем ее нет? Вышел Боев наружу. Мутнела пасмурная ночь, прибеленная снегом. Висела отстоенная тишина. Полная. Сверху снежка больше не было. Все трое комбатов - тут как тут. Ждут команды. Один всегда - при комдиве, это Мягков будет, как и часто. А Прощенков, Касьянов - по километру влево, вправо, на своих наблюдательных, и связь с комдивом только через огневые. Ну, уже многое видали, сами знают сынки. Сейчас самое важное - правильно выбрать места наблюдательных. Еще раньше: на какую глубину можно и нужно внедриться. В такой темноте, тишине и без пехотной линии - как угадать? Мало продвинешься - будешь сидеть бесполезно, много продвинешься - и к немцам не чудо попасть. - А все ж таки понимай, ребята: вот такая тишина, и такая пустота - это может быть очень, очень серьезно. Топлеву: - Ищи, Женя, пехоту, нащупывай всеми гонцами. Найдешь - пусть командир полка меня ищет. Это уж... слишком такое... Из бригады - узнавай, узнавай обстановку. А я выберу НП - свяжусь с тобой. И прыгнул в передние сани. |
Дальше читайте ЗДЕСЬ.
|
Слушать ЗДЕСЬ.
(отлично читает! куда там актёрам...) |
Скульптор Время. 1942 год ........2004 год...
http://www.solzhenitsyn.ru/upload/ib...03/jzl-024.jpghttp://sila.by.ru/ais1.jpg |
О русском языке.
-- Александр Исаевич, язык -- живое существо, понятно, что он развивается, но разве то, что мы слышим и читаем сегодня, не ужасно? -- Жму руку человеку, задавшему этот вопрос. То, что мы читаем, ужасно. Как сокращалась шагреневая кожа, так от десятилетия к десятилетию сокращается наш язык. Мы теряем замечательные, яркие русские слова. Американщина, которой напаивается сегодня наш язык, в конце концов схлынет. Останутся слова для терминологии -- «лазер», «компьютер», а все эти «прессинги», «брифинги» и прочая дрянь -- все это сойдет. Так уже было в XVIII веке, почитайте книги времен Елизаветы. Это невозможно читать, столько там голландского, немецкого, казалось, что русский язык погиб. Но все схлынуло, ушло. Однако сегодня мы сами теряем свой русский язык. Я получаю упреки от литературных критиков даже деревенского происхождения: «Откуда вы берете эти слова? Зачем придумываете?» Если я за все время что-то и придумал, так это слова «зек», «образованщина» и «архипелаг ГУЛАГ» -- так получилось. Один раз употребил слово «обустроить» -- давнишнее слово, так за него схватились как за новое. А оно было у нас столетиями и было отброшено как чуждое. |
Положу ссылочку, чтоб не затерялась.
Сеанс разоблачения проведу, когда будет больше времени. ***Желающие могут сами сверить с первоисточниками приведённые в том клоповнике цитаты. :)) |
О Ваньке Ветрове и АИС, или стань сам
себе графологом. http://za-cccp.narod.ru/img/9.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/2714/...48dd43ba_L.jpg http://s54.radikal.ru/i144/0906/4a/753216dfab6d.jpg |
= Всех, кому хочется обсудить прочитанное
здесь, в моём блоге, приглашаю на ветку с двусторонней связью. Вот сюда. |
Якунин о Солженицыне.
|
Прощание...
(скоро годовщина ухода великого россиянина) ============================================== ***Шакалью надпись на втором ролике заметили и подленькие лживые оговорки ведущих НТВ? Даже мёртвый лев им страшен. :))) |
Почему шакалы ненавидят льва.
"Из мусора, из ничего нарастили миллиардеров, которые ничего не сделали для России..." (АИС) |
Довлатов вспомнился...
ТРУСЦОЙ ПРОТИВ ВЕТРА Александр Янов - давно оппонент Солженицына. Солженицын раза два обронил в адрес Янова что-то пренебрежительное. Янов напечатал в американской прессе десятки критических материалов относительно Солженицына. Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Он - учтив, элегантен, имеет слабость к белым пиджакам. У него детские ресницы и спортивная фигура. По утрам он бегает трусцой. Даже - находясь в командировке. Даже - наутро после банкета в ресторане "Моне"... Янов прочитал свой доклад. Он проделал это с воодушевлением. В состоянии громадного душевного подъема. Солженицын отсутствовал. Мне трудно дать оценку соображениям Янова. Для этого я недостаточно компетентен. Тем более воздержусь от критики идей Солженицына. Я хотел бы поделиться не мыслями, а ощущениями. Вернее - единственным ощущеним. Реальная дискуссия между Солженицыным и Яновым - невозможна. Поскольку они говорят на разных языках. Дело не в том, что Солженицын - русский патриот, христианин, консерватор, изгнанник. И не в том, что Янов -- добровольно эмигрировавший еврей, агностик, либерал. Пропасть между ними значительно шире. Представьте себе такой диалог. Некто утверждает: - Мне кажется, Чехов выше Довлатова! А в ответ раздается: --Неправда. Довлатов значительно выше. Его рост - шесть футов и четыре дюйма... Оба правы. Хоть и говорят на разных языках... Ромашка, например, для крестьянина - сорняк, а для влюбленного - талмуд. Солженицын - гениальный художник, взывающий к человеческому сердцу. Янов - блестящий ученый, апеллирующий к здравому смыслу... Попытайтесь вообразить Солженицына, бегущего трусцой. Да еще - после банкета в ресторане "Моне"... |
Две фотографии Исаича.
На одной времён советской славы и зенита http://www.solzhenitsyn.ru/upload/ib...f8/jzl-066.jpg на другой через 40 лет и за год до смерти. http://www.solzhenitsyn.ru/upload/ib...9b/jzl-122.jpg Два разных человека! |
Письмо АИСа Иосифу Бродскому
(ответ Иосифу по поводу приглашения Исаича одним из университетов США выступить с лекцией перед его выпускниками). 14.5.77 Дорогой Иосиф! (простите, никогда не знал Вашего отчества) Ни в одном русском журнале не пропускаю Ваших стихов, не перестаю восхищаться Вашим блистательным мастерством. Иногда страшусь, что Вы как бы в чем-то разрушаете стих, — но и это Вы делаете с несравненным талантом. Спасибо за передаваемое Вами приглашение Мичиганского университета и тем лицам, которые Вам это приглашение для меня передали. Я с интересом прочел, что Вы пишете об этом университете. Не исключаю, что когда-нибудь позже, но не в этом году, принял бы это приглашение. Но в 1977 — уверенно могу ответить, что нет: так загружен работой. Желаю Вам здоровья и бодрости, постарайтесь не терять их. И — новых успехов. А. Солженицын |
Солженицын о поэзии Бродского.
Образец филологической аналитики. Более серьёзного и внимательного о творчестве Бродского я не читала. Жаль, что сам Иосиф не мог уже прочитать и вступить в диалог со своим великим критиком. ***Весь текст, к сожалению, в рамки форумские не помещается, даю небольшие выдержки. Этот томик избранных1, если читать весь подряд... Тут остановлюсь. В каком порядке стихи расположены? Не строго хронологически, этому порядку Бродский не вверяется. Значит, он нашёл какую-то иную внутреннюю органическую связь, ход развития? Тоже нет, ибо, видим: от сборника к сборнику последовательность стихов меняется. Стало быть, она так и не найдена. Но вот, когда читаешь весь том подряд, то, начиная от середины, возникает как бы знание наперёд всех приёмов и всего скептико-иронического и эпатирующего тона. Иронией — всё просочено и переполнено. Юмор? Если и просквознёт изредка, то не вырываясь из жёсткой усмешки. Известно: после Первой Мировой войны ирония как манера взгляда на мир всё более захлёстывала западных интеллектуалов. До двух третей века многообразные советские заслоны мешали этому потоку захватить и подсоветские умы. С брежневской эпохи перетёк начался и к нам, сперва — в сферу частной (или “кухонной”) мысли. Но уже с 80-х годов завидно уверенно возглашается: “ирония — религия нашего века”, она захватывает весь небосклон мировосприятия, затем и самого субъекта: в XX веке для пишущего “невозможно принять [и] себя абсолютно всерьёз”. (Хотя, заметим, каждому Божьему творению дано отроду чувствовать всё существующее всерьёз.) И мода эта не могла не заполонить Иосифа Бродского, возможно, при очевидной его личной уязвимости, — и как форма самозащиты. Иронию можно назвать сквозной чертой, органической частью его мирочувствия и всеохватным образом поведения, даже бравадно педалируемым (в чём проглядывает и признак беспомощности). Неизменная ироничность становится для Бродского почти обязанностью поэтической службы. Едче всего изъязвить таким подходом любовную ткань. Вот берётся Бродский за сюжет Марии Стюарт, столь романтически воспетый многими, и великими, поэтами. Но романтика для него дурной тон, а проявить лиричность — и вовсе недопустимо. И он — резкими сдёргами профанирует сюжет (заодно — и саму сонетную форму), снижается до глумления: “кому дала ты или не дала”, “для современников была ты блядь”, и даже к её статуе в Люксембургском саду: “пусть ног тебе не вскидывать в зенит”. Ещё и диссонансами языковыми: “сюды”, “топ-топ на эшафот”, “вдарить”, “вчерась”, “атас!”, “и обратиться не к кому с „иди на””, — и это чередуется со светскими реверансами — какое-то мелкое петушинство. И весь цикл (оттенённый признанием, что именно Мария Стюарт его, мальца, “с экрана обучала чувствам нежным”) написан словно лишь для того, чтобы поразить мрачно-насмешливой дерзостью. Однако во всех его возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целости, без изъяна. Немало таких среди стихов, обращённых к М. Б. Великолепна “Бабочка”: и графическая форма стиха и краткость строк передают порханье её крыльев (тут — и мысли свежи). “На столетие Анны Ахматовой” — из лучшего, что он написал, сгущённо и лапидарно. “Памяти Геннадия Шмакова”: несмотря на обычную холодность также и надгробных стихов Бродского, этот стих поражает блистательной виртуозностью, фонтаном эпитетов. — И наконец разительный “Осенний крик ястреба”: эти смены взгляда — от ястреба на землю вниз, и на ястреба с земли, и — вблизи рядом с летящим, так что виден нам “в жёлтом зрачке <...> злой / блеск <…> помесь гнева / с ужасом” — и отчаянный предсмертный крик птицы (“и мир на миг / как бы вздрагивает от пореза”) — и ястреба разрывает со звоном, и его оперенье, опушённое “инеем, в серебре”, выпадает на землю, как снег. Это — не только из вершинных стихотворений Бродского, но и — самый яркий его автопортрет, картина всей его жизни. *** Бродский весьма отдаёт себе отчёт, как важна родственность языку, на котором пишешь, и не раз об этом высказывался, что даже и цели иной не имеет, как только служить русскому языку. В год эмиграции: “всё, что творил я, творил... ради речи родной, словесности”. Но тут оценки могут сильно разойтись. Глубинных возможностей русского языка Бродский вовсе не использовал, огромный органический слой русского языка как не существует для него, или даже ему не известен, не проблеснёт ни в чём. Однако обращается он с языком лихо, то нервно его ломает, то грубо взрывает разностилем, неразборчив в выборе слов, то просто небрежен к синтаксису и грамматике. **** А следуя всё той же тактике языковых взрывов, поэт вперемежку посылает нам: “пусть КГБ на меня не дрочит”, “сухой мандраж”, “кладу на мысль о камуфляже”; “ах ты бля”; и несколько раз — прямой и прямой мат. (И во всём же этом щегольстве слух различает неорганичность автору даже и этой брани, заимствованность.) Изжажданное ли окунанье в хляби языка, однако без чувства меры, приводит к лексике, подбираемой новичками для изображения простонародья (тут и нарочитая ирония, конечно): не осерчай, еёная, вестимо, мен б е, завсегда, даве, ноне, вчерась, неча, невесть, опричь, поди, супротив, эк, впрямь. И рядом с этим всем высокопоэтическое славянское “зане” (и не раз, даже и в таком сочетании: “зане... есть предмет эволюции”). Должна отметить, что это эссе АИСа вызвало очередной взрыв злобы и селевые потоки со стороны русскоязычных блюстителей русской словесности :) |
Александр Солженицын
ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКОМПАНИИ РТР (2005) О демократии. Цитата:
|
И на солнце бывают пятна, увы.
http://www.youtube.com/watch?v=MvZgyiju7jw От себя добавлю, что ещё при жизни Исаича были найдены автографы "Тихого Дона", однако Исаич не принёс свои извинения читателям и семье М.Шолохова за свои облыжные утверждения, что не Шолохов автор "Тихого Дона. Эта заноза до сих пор сидит во мне, как и сомнения в литературном чутье Солженицына, ибо нельзя прочитав "Донские рассказы" сомневаться, что они и есть исток "Тихого Дона", этюды к большому полотну. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:16. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot